
Часть вторая. В Москве
Глава XV. Среди океана стульев
Статистика знает все.
Точно учтено количество пахотной земли в СССР с подразделением на чернозем, суглинок и лёсс. Все граждане обоего пола записаны в аккуратные толстые книги, так хорошо известные Ипполиту Матвеевичу Воробьянинову - книги загсов. Известно, сколько какой пищи съедает в год средний гражданин республики. Известно, сколько этот средний гражданин выпивает в среднем водки, с примерным указанием потребляемой закуски. Известно, сколько в стране охотников, балерин, револьверных станков, собак всех пород, велосипедов, памятников, девушек, маяков и швейных машинок.
Как много жизни, полной пыла, страстей и мысли, глядит на нас со статистических таблиц!
Кто он, розовощекий индивид, сидящий с салфеткой на груди за столиком и с аппетитом уничтожающий дымящуюся снедь? Вокруг него лежат стада миниатюрных быков. Жирные свиньи сбились в угол таблицы. В специальном статистическом бассейне плещутся бесчисленные осетры, налимы и рыба чехонь. На плечах, руках и голове индивида сидят куры. В перистых облаках летают домашние гуси, утки и индейки. Под столом прячутся два кролика. На горизонте возвышаются пирамиды и вавилоны из печеного хлеба. Небольшая крепость из варенья омывается молочной рекой. Огурец, величиною в пизанскую башню, стоит на горизонте. За крепостными валами из соли, и перцу пополуротно маршируют вина, водки и наливки. В арьергарде жалкой кучкой плетутся безалкогольные напитки: нестроевые нарзаны, лимонады и сифоны в проволочных сетках.
Кто же этот розовощекий индивид - обжора, пьянчуга и сластун? Гаргантюа, король дипсодов? Силач Фосс? Легендарный солдат Яшка Красная Рубашка? Лукулл?
Это не Лукулл. Это - Иван Иванович Сидоров или Сидор Сидорович Иванов; средний гражданин, съедающий в среднем за свою жизнь всю изображенную на таблице снедь. Это - нормальный потребитель калорий и витаминов, тихий сорокалетний холостяк, служащий в госмагазине галантереи и трикотажа.
От статистики не скроешься никуда. Она имеет точные сведения не только о количестве зубных врачей, колбасных, шприцев, дворников, кинорежиссеров, проституток, соломенных крыш, вдов, извозчиков и колоколов, но знает даже, сколько в стране статистиков.
И одного она не знает.
Не знает она, сколько в СССР стульев.
Стульев очень много. Последняя статистическая перепись определила численность населения союзных республик в сто сорок три миллиона человек. Если отбросить девяносто миллионов крестьян, предпочитающих стульям лавки, полати, завалинки, а на Востоке - истертые ковры и паласы, то все же остается пятьдесят миллионов человек, в домашнем обиходе которых стулья являются предметами первой необходимости. Если же принять во внимание возможные просчеты в исчислениях и привычку некоторых граждан Союза сидеть между двух стульев, то, сократив на всякий случай общее число вдвое, найдем, что стульев в стране должно быть не менее двадцати шести с половиной миллионов. Для верности откажемся еще от шести с половиной миллионов. Оставшиеся двадцать миллионов будут числом минимальным.
Среди этого океана стульев, сделанных из ореха, дуба, ясеня, палисандра, красного дерева и карельской березы, среди стульев еловых и сосновых герои романа должны найти ореховый гамбсовский стул с гнутыми ножками, таящий в своем обитом английским ситцем брюхе сокровища мадам Петуховой.
Концессионеры лежали на верхних полках и еще спали, когда поезд осторожно перешел Оку и, усилив ход, стал приближаться к Москве.
Глава XVI. Общежитие имени монаха Бертольда Шварца
Ипполит Матвеевич и Остап, напирая друг на друга, стояли у открытого окна жесткого вагона и внимательно смотрели на коров, медленно сходивших с насыпи, на хвою, на дощатые дачные платформы.
Все дорожные анекдоты были уже рассказаны. "Старгородская правда" от вторника прочитана до объявлений и покрыта масляными пятнами. Все цыплята, яйца и маслины съедены.
Оставался самый томительный участок пути - последний час перед Москвой.
Из реденьких лесочков и рощ подскакивали к насыпи веселенькие дачки. Были среди них деревянные дворцы, блещущие стеклом веранд и свежевыкрашенными железными крышами. Были и простые деревянные срубы с крохотными квадратными оконцами, настоящие капканы для дачников.
В то время как пассажиры с видом знатоков рассматривали горизонт и, перевирая сохранившиеся в памяти воспоминания о битве при Калке, рассказывали друг другу прошлое и настоящее Москвы, Ипполит Матвеевич упорно старался представить себе музей мебели. Музей представлялся ему в виде многоверстного коридора, по стенам которого шпалерами
стояли стулья. Воробьянинов видел себя быстро идущим между ними.
- Как еще будет с музеем мебели, неизвестно. Обойдется? - встревоженно говорил он.
- Вам, предводитель, пора уже лечиться электричеством. Не устраивайте преждевременной истерики. Если вы уже не можете не переживать, то переживайте молча.
Поезд прыгал на стрелках. Глядя на него, семафоры разевали рты. Пути учащались. Чувствовалось приближение огромного железнодорожного узла. Трава исчезла, ее заменил шлак. Свистали маневровые паровозы. Стрелочники трубили. Внезапно грохот усилился. Поезд вкатился в коридор между порожними составами и, щелкая, как турникет, стал пересчитывать вагоны.
Пути вздваивались.
Поезд выскочил из коридора. Ударило солнце. Низко, по самой земле, разбегались стрелочные фонари, похожие на топорики. Валил дым. Паровоз, отдуваясь, выпустил белоснежные бакенбарды. На поворотном кругу стоял крик. Деповцы загоняли паровоз в стойло.
От резкого торможения хрустнули поездные суставы. Все завизжало, и Ипполиту Матвеевичу показалось, что он попал в царство зубной боли. Поезд причалил к асфальтовому перрону.
Это была Москва. Это был Рязанский - самый свежий и новый из всех московских вокзалов.
Ни на одном из восьми остальных вокзалов Москвы нет таких обширных и высоких помещений, как на Рязанском. Весь Ярославский вокзал, с его псевдорусскими гребешками и геральдическими курочками, легко может поместиться в большом буфете-ресторане Рязанского вокзала.
Московские вокзалы-ворота города. Ежедневно ни впускают и выпускают тридцать тысяч пассажиров. Через Александровский вокзал входит в Москву иностранец на каучуковых подошвах, в костюме для гольфа (шаровары и толстые шерстяные чулки наружу). С Курского - попадает в Москву кавказец в коричневой бараньей шапке с вентиляционными дырочками и рослый волгарь в пеньковой бороде. С Октябрьского - выскакивает полуответственный работник с портфелем из дивной свиной кожи. Он приехал из Ленинграда по делам увязки, согласования и конкретного охвата. Представители Киева и Одессы проникают в столицу через Брянский вокзал. Уже на станции Тихонова пустынь киевляне начинают презрительно улыбаться. Им великолепно известно, что Крещатик - наилучшая улица на земле. Одесситы тащат с собой корзины и плоские коробки с копченой скумбрией. Им тоже известна лучшая улица на земле. Но это, конечно, не Крещатик, это улица Лассаля, бывшая Дерибасовская. Из Саратова, Аткарска, Тамбова, Ртищева и Козлова в Москву приезжают с Павелецкого вокзала. Самое незначительное число людей прибывает в Москву через Савеловский. Это - башмачники из Талдома, жители города Дмитрова, рабочие Яхромской мануфактуры или унылый дачник, живущий зимой и летом на станции Хлебниково. Ехать здесь в Москву недолго. Самое большое расстояние по этой линии - сто тридцать верст. С Ярославского вокзала попадают в столицу люди, приехавшие из Владивостока, Хабаровска, Читы, из городов дальних и больших.
Самые диковинные пассажиры, однако, на Рязанском вокзале. Это узбеки в белых кисейных чалмах и цветочных халатах, краснобородые таджики, туркмены, хивинцы и бухарцы, над республиками которых сияет вечное солнце.
Концессионеры с трудом пробились к выходу и очутились на Каланчевской площади. Справа от них высились геральдические курочки Ярославского вокзала. Прямо против них тускло поблескивал Октябрьский вокзал, выкрашенный масляной краской в два цвета. Часы на нем показывали пять минут одиннадцатого. На часах Ярославского вокзала было ровно десять. А посмотрев на темно-синий, украшенный знаками Зодиака циферблат Рязанского вокзала, путешественники заметили, что часы показывали без пяти десять.
- Очень удобно для свиданий! - сказал Остап.- Всегда есть десять минут форы.
Извозчик издал губами поцелуйный звук. Проехали под мостом, и перед путниками развернулась величественная панорама столичного города.
- Куда мы, однако, едем? - спросил Ипполит Матвеевич.
- К хорошим людям,- ответил Остап,- в Москве их масса. И все мои знакомые.
- И мы у них остановимся?
- Это общежитие. Если не у одного, то у другого место всегда найдется.
В Охотном ряду было смятение. Врассыпную, с лотками на головах, как гуси, бежали беспатентные лоточники. За ними лениво трусил милиционер. Беспризорные сидели возле асфальтового чана и с наслаждением вдыхали запах кипящей смолы.
Выехали на Арбатскую площадь, проехали по Пречистенскому бульвару и, свернув направо, остановились на Сивцевом Вражке.
- Что это за дом? - спросил Ипполит Матвеевич. Остап посмотрел на розовый домик с мезонином и ответил:
- Общежитие студентов-химиков имени монаха Бертольда Шварца.
- Неужели монаха?
- Ну, пошутил, пошутил. Имени Семашко.
Как и полагается рядовому студенческому общежитию в Москве, дом студентов-химиков давно уже был заселен людьми, имеющими к химии довольно отдаленное отношение. Студенты расползлись. Часть из них окончила курс и разъехалась по назначениям, часть была исключена за академическую неуспешность. Именно эта часть, год от году возрастая, образовала в розовом домике нечто среднее между жилтовариществом и феодальным поселком. Тщетно пытались ряды новых студентов ворваться в общежитие. Экс-химики были необыкновенно изобретательны и отражали все атаки. На домик махнули рукой. Он стал считаться диким и исчез со всех планов МУНИ. Его как будто бы и не было. А между тем он был и в нем жили люди.
Концессионеры поднялись по лестнице на второй этаж и свернули в совершенно темный коридор.
- Свет и воздух,- сказал Остап.
Внезапно в темноте, у самого локтя Ипполита Матвеевича, кто-то засопел.
- Не пугайтесь,- заметил Остап,- это не в коридоре. Это за стеной. Фанера, как известно из физики,- лучший проводник звука. Осторожнее! Держитесь за меня! Тут где-то должен быть несгораемый шкаф.
Крик, который сейчас же издал Воробьянинов, ударившись грудью об острый железный угол, показал, что шкаф действительно где-то тут.
- Что, больно? - осведомился Остап.- Это еще ничего. Это - физические мучения, Зато сколько здесь было моральных мучений - жутко вспомнить. Тут вот рядом стоял скелет, собственность студента Иванопуло. Он купил его на Сухаревке, а держать в комнате боялся. Так что посетители сперва ударялись о кассу, а потом на них падал скелет. Беременные женщины были очень недовольны.
По лестнице, шедшей винтом, компаньоны поднялись в мезонин. Большая комната мезонина была разрезана фанерными перегородками на длинные ломти, в два аршина ширины каждый. Комнаты были похожи на пеналы, с тем только отличием, что, кроме карандашей и ручек, здесь были люди и примусы.
- Ты дома, Коля? - тихо спросил Остап, остановившись у центральной двери.
В ответ на это во всех пяти пеналах завозились и загалдели.
- Дома,- ответили за дверью.
- Опять к этому дураку гости спозаранку пришли!- зашептал женский голос из крайнего пенала слева.
- Да дайте же человеку поспать! - буркнул пенал № 2.
В третьем пенале радостно зашипели:
- К Кольке из милиции пришли. За вчерашнее стекло.
В пятом пенале молчали. Там ржал примус и целовались.
Остап толкнул ногою дверь. Все фанерное сооружение затряслось, и концессионеры проникли в Колькину щель. Картина, представившаяся взору Остапа, при внешней своей невинности, была ужасна. В комнате из мебели был только матрац в красную полоску, лежавший на четырех кирпичах. Но не это обеспокоило Остапа. Колькина мебель была ему известна давно. Не удивил его и сам Колька, сидящий на матраце с ногами. Но рядом сидело такое небесное создание, что

Колькина мебель была ему известна давно...
Остап сразу омрачился. Такие девушки никогда не бывают деловыми знакомыми - для этого у них слишком голубые глаза и чистая шея. Это любовницы или, еще хуже, это жены - и жены любимые. И действительно, Коля называл создание Лизой, говорил ей "ты" и показывал ей рожки.
Ипполит Матвеевич снял свою касторовую шляпу. Остап вызвал Колю в коридор. Там они долго шептались.
- Прекрасное утро, сударыня,- сказал Ипполит Матвеевич.
Голубоглазая сударыня засмеялась и без всякой видимой связи с замечанием Ипполита Матвеевича заговорила о том, какие дураки живут в соседнем пенале.
- Они нарочно заводят примус, чтобы не было слышно, как они целуются. Но вы поймите, это же глупо. Мы все слышим. Вот они действительно ничего уже не слышат из-за своего примуса. Хотите, я вам сейчас покажу? Слушайте!
И Колина жена, постигшая все тайны примуса, громко сказала:
- Зверевы дураки!
За стеной слышалось адское пение примуса и звуки поцелуев.
- Видите? Они ничего не слышат. Зверевы дураки, болваны и психопаты. Видите!..
- Да,- сказал Ипполит Матвеевич.
- А мы примуса не держим. Зачем? Мы ходим обедать в вегетарианскую столовую, хотя я против вегетарианской столовой. Но когда мы с Колей поженились, он мечтал о том, как мы вместе будем ходить в вегетарианку. Ну вот мы и ходим. Я очень люблю мясо. А там котлеты из лапши. Только вы, пожалуйста, ничего не говорите Коле...
В это время вернулся Коля с Остапом.
- Ну что ж, раз у тебя решительно нельзя остановиться, мы пойдем к Пантелею.
- Верно, ребята! - закричал Коля.- Идите к Иванопуло. Это свой парень.
- Приходите к нам в гости,- сказала Колина жена,- мы с мужем будем очень рады.
- Опять в гости зовут! - Возмутились в крайнем пенале слева.- Мало им гостей!
- А вы - дураки, болваны и психопаты, не ваше дело!- сказала Колина жена, не повышая голоса.
- Ты слышишь, Иван Андреевич,- заволновались в крайнем пенале,- твою жену оскорбляют, а ты молчишь.
Подали свой голос невидимые комментаторы и из других пеналов. Словесная перепалка разрасталась. Компаньоны ушли вниз, к Иванопуло.
Студента не было дома. Ипполит Матвеевич зажег спичку. На дверях висела записка: "Буду не раньше 9 ч. Пантелей".
- Не беда,- сказал Остап,- я знаю, где ключ. Он пошарил под несгораемой кассой, достал ключ и открыл дверь.
Комната студента Иванопуло была точно такого же размера, как и Колина, но зато угловая. Одна стена ее была каменная, чем студент очень гордился. Ипполит Матвеевич с огорчением заметил, что у студента не было даже матраца.
- Отлично устроимся, - сказал Остап, - приличная кубатура для Москвы. Если мы уляжемся все втроем на полу, то даже останется немного места. А Пантелей - сукин сын! Куда он девал матрац, интересно знать?
Окно выходило в переулок. Там ходил милиционер. Напротив, в домике, построенном на манер готической башни, помещалось посольство крохотной державы. За железной решеткой играли в теннис. Летал белый мячик. Слышались короткие возгласы.
- Аут,- сказал Остап,- класс игры невысокий. Однако давайте отдыхать.
Концессионеры разостлали на полу газеты. Ипполит Матвеевич вынул подушку-думку, которую возил с собой.
Остап повалился на телеграммы и заснул. Ипполит Матвеевич спал уже давно.
Глава XVII. Уважайте матрацы, граждане!
- Лиза, пойдем обедать!
- Мне не хочется. Я вчера уже обедала.
- Я тебя не понимаю.
- Не пойду я есть фальшивого зайца.
- Ну, и глупо!
- Я не могу питаться вегетарианскими сосисками.
- Сегодня будешь есть шарлотку.
- Мне что-то не хочется.
- Говори тише. Все слышно.
И молодые супруги перешли на драматический шепот.
Через две минуты Коля понял в первый раз за три месяца супружеской жизни, что любимая женщина любит морковные, картофельные и гороховые сосиски гораздо меньше, чем он.
- Значит, ты предпочитаешь собачину диетическому питанию? - закричал Коля, в горячности не учтя подслушивающих соседей.
- Да говори тише! - громко закричала Лиза.- И потом ты ко мне плохо относишься. Да! Я люблю мясо! Иногда. Что же тут дурного?
Коля изумленно замолчал. Этот поворот был для него неожиданным. Мясо пробило бы в Колином бюджете огромную, незаполнимую брешь. Прогуливаясь вдоль матраца, на котором, свернувшись в узелок, сидела раскрасневшаяся Лиза, молодой супруг производил отчаянные вычисления.
Копирование на кальку в чертежном бюро "Техносила" давало Коле Калачову даже в самые удачные месяцы никак не больше сорока рублей. За квартиру Коля не платил. В диком поселке не было управдома, и квартирная плата была там понятием абстрактным. Десять рублей уходило на обучение Лизы кройке и шитью на курсах с правами строительного техникума. Обед на двоих (одно первое - борщ монастырский и одно второе - фальшивый заяц или настоящая лапша), съедаемый честно пополам в вегетарианской столовой "Не укради", вырывал из бюджета супругов тринадцать рублей в месяц. Остальные деньги расплывались неизвестно куда. Это больше всего смущало Колю. "Куда идут деньги?" - задумывался он, вытягивая рейсфедером на небесного цвета кальке длинную и тонкую линию. При таких условиях перейти на мясоедение значило гибель. Поэтому Коля пылко заговорил:
- Подумай только, пожирать трупы убитых животных! Людоедство под маской культуры! Все болезни происходят от мяса.
- Конечно,- с застенчивой иронией сказала Лиза,- например, ангина.
- Да, да, и ангина! А что ты думаешь? Организм, ослабленный вечным потреблением мяса, не в силах сопротивляться инфекции.
- Как это глупо!
- Не это глупо. Глуп тот, кто стремится набить свой желудок, не заботясь о количестве витаминов.
Коля вдруг замолчал. Все больше и больше заслоняя фон из пресных и вялых лапшевников, каши и картофельной чепухи, перед Колиным внутренним оком предстала обширная свиная котлета. Она, как видно, только что соскочила со сковороды. Она еще шипела, булькала и выпускала пряный дым. Кость из котлеты торчала, как дуэльный пистолет.
- Ведь ты пойми,- закричал Коля,- какая-нибудь свиная котлета отнимает у человека неделю жизни!
- Пусть отнимает! - сказала Лиза.- Фальшивый заяц отнимает полгода. Вчера, когда мы съели морковное жаркое, я почувствовала, что умираю. Только я не хотела тебе говорить.
- Почему же ты не хотела говорить?
- У меня не было сил. Я боялась заплакать.
- А теперь ты не боишься?
- Теперь мне уже все равно. Лиза всплакнула.
- Лев Толстой,- сказал Коля дрожащим голосом,- тоже не ел мяса.
- Да-а,- ответила Лиза, икая от слез,- граф ел спаржу.
- Спаржа не мясо.
- А когда он писал "Войну и мир", он ел мясо! Ел, ел, ел! И когда "Анну Каренину" писал-лопал, лопал, лопал!
- Да замолчи!
- Лопал! Лопал! Лопал!
- А когда "Крейцерову сонату" писал, тогда тоже лопал? - ядовито спросил Коля.
- "Крейцерова соната" маленькая. Попробовал бы он написать "Войну и мир", сидя на вегетарианских сосисках!
- Что ты наконец прицепилась ко мне со своим Толстым?
- Як тебе прицепилась с Толстым? Я? Я к вам прицепилась с Толстым?
Коля тоже перешел на "вы". В пеналах громко ликовали. Лиза поспешно с затылка на лоб натягивала голубую вязаную шапочку.
- Куда ты идешь?
- Оставь меня в покое. Иду по делу.
И Лиза убежала.
"Куда она могла пойти?" - подумал Коля. Он прислушался.
- Много воли дано вашей сестре при советской власти,- сказали в крайнем слева пенале.
- Утопится! - решили в третьем пенале. Пятый пенал развел примус и занялся обыденными поцелуями.
Лиза взволнованно бежала по улицам.
Был тот час воскресного дня, когда счастливцы везут по Арбату с рынка матрацы.
Молодожены и советские середняки - главные покупатели пружинных матрацев. Они везут их стоймя и обнимают обеими руками. Да как им не обнимать голубую, в лоснящихся цветочках, основу своего счастья!
Граждане! Уважайте пружинный матрац в голубых цветочках! Это - семейный очаг, альфа и омега меблировки, общее и целое домашнего уюта, любовная база, отец примуса! Как сладко спать под демократический звон его пружин! Какие чудесные сны видит человек, засыпающий на его голубой дерюге! Каким уважением пользуется каждый матрацевладелец!
Человек, лишенный матраца, жалок. Он не существует. Он не платит налогов, не имеет жены, знакомые не дают ему взаймы денег "до среды", шоферы такси посылают ему вдогонку оскорбительные слова, девушки смеются над ним: они не любят идеалистов.
Человек, лишенный матраца, большей частью пишет стихи:
Под мягкий звон часов Буре приятно отдыхать в качалке.
Снежинки вьются на дворе, и, как мечты, летают галки.
Творит он за высокой конторкой телеграфа, задерживая деловых матрацевладельцев, пришедших отправлять телеграммы.
Матрац ломает жизнь человеческую. В его обивке и пружинах таится некая сила, притягательная и до сих пор не исследованная. На призывный звон его пружин стекаются люди и вещи. Приходит финагент и девушки. Они хотят дружить с матрацевладельцами. Финагент делает это в целях фискальных, преследующих государственную пользу, а девушки - бескорыстно, повинуясь законам природы.
Начинается цветение молодости. Финагент, собравши налог, как пчела собирает весеннюю взятку, с радостным гулом улетает в свой участковый улей. А отхлынувших девушек заменяет жена и примус "Ювель № 1".
Матрац ненасытен. Он требует жертвоприношений. По ночам он издает звон падающего мяча. Ему нужна этажерка. Ему нужен стол на глупых тумбах. Лязгая пружинами, он требует занавесей, портьер и кухонной посуды. Он толкает человека и говорит ему:
- Пойди! Купи рубель и скалку!
- Мне стыдно за тебя, человек, у тебя до сих пор нет ковра!
- Работай! Я скоро принесу тебе детей! Тебе нужны деньги на пеленки и колясочку.
Матрац все помнит и все делает по-своему.
Даже поэт не может избежать общей участи. Вот он везет с рынка матрац, с ужасом прижимаясь к его мягкому брюху.
- Я сломлю твое упорство, поэт! - говорит матрац.- Тебе уже не надо будет бегать на телеграф писать стихи. Да и вообще стоит ли их писать? Служи! И сальдо будет всегда в твою пользу. Подумай о жене и детях.
- У меня нет жены! - кричит поэт, отшатываясь от пружинного учителя.
- Она будет. И я не поручусь, что это будет самая красивая девушка на земле. Я не знаю даже, будет ли она добра. Приготовься ко всему. У тебя родятся дети.
- Я не люблю детей!
- Ты полюбишь их!
- Вы пугаете меня, гражданин матрац!
- Молчи, дурак! Ты не знаешь всего! Ты еще возьмешь в Мосдреве кредит на мебель.
- Я убью тебя, матрац!
- Щенок! Если ты осмелишься это сделать, соседи донесут на тебя в домоуправление.
Так каждое воскресенье, под радостный звон матрацев, циркулируют по Москве счастливцы.
Но не этим одним, конечно, замечательно московское воскресенье. Воскресенье - музейный день.
Есть в Москве особая категория людей. Она ничего не понимает в живописи, не интересуется архитектурой и не любит памятников старины. Эта категория посещает музеи исключительно потому, что они расположены в прекрасных зданиях. Эти люди бродят по ослепительным залам, завистливо рассматривают расписные потолки, трогают руками то, что трогать воспрещено, и беспрерывно бормочут:
- Эх! Люди жили!
Им не важно, что стены расписаны французом Пюви де Шаванном. Им важно узнать, сколько это стоило бывшему владельцу особняка. Они поднимаются по лестнице с мраморными изваяниями на площадках и представляют себе, сколько лакеев стояло здесь, сколько жалованья и чаевых получал каждый лакей. На камине стоит фарфор, но они, не обращая на него внимания, решают, что камин - штука невыгодная: слишком много уходит дров. В столовой, обшитой дубовой панелью, они не смотрят на замечательную резьбу. Их мучит одна мысль: что ел здесь бывший хозяин-купец и сколько бы это стоило при теперешней дороговизне?
В любом музее можно найти таких людей. В то время как экскурсии бодро маршируют от одного шедевра к другому, такой человек стоит посреди зала и, не глядя ни на что, мычит тоскуя:
- Эх! Люди жили!
Лиза бежала по улице, проглатывая слезы. Мысли подгоняли ее. Она думала о своей счастливой и бедной жизни.
"Вот, если бы был еще стол и два стула, было бы совсем хорошо., И примус в конце концов нужно завести. Нужно как-то устроиться".
Она пошла медленнее, потому что внезапно вспомнила о ссоре с Колей. Кроме того, ей очень хотелось есть. Ненависть к мужу разгорелась в ней внезапно.
- Это просто безобразие! - сказала она вслух. Есть захотелось еще сильней.
- Хорошо же, хорошо. Я сама знаю, что мне делать.
И Лиза, краснея, купила у торговки бутерброд с вареной колбасой. Как она ни была голодна, есть на улице показалось неудобным. Как-никак, а она все-таки была матрацевладелицей и тонко разбиралась в жизни. Она оглянулась и вошла в подъезд двухэтажного особняка. Там, испытывая большое наслаждение, она принялась за бутерброд. Колбаса была обольстительна. Большая экскурсия вошла в подъезд. Проходя мимо стоявшей у стены Лизы, экскурсанты посматривали на нее.
"Пусть видят!" - решила озлобленная Лиза.
Глава XVIII. Музей мебели
Лиза вытерла платочком рот и смахнула с кофточки крошки. Ей стало веселее. Она стояла перед вывеской:
МУЗЕЙ МЕБЕЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
Возвращаться домой было неудобно. Идти было не к кому. В карманчике лежало двадцать копеек. И Лиза решила начать самостоятельную жизнь с посещения музея. Проверив наличность, Лиза пошла в вестибюль.
Там она сразу наткнулась на человека в подержанной бороде, который, упершись тягостным взглядом в малахитовую колонну, цедил сквозь усы: - Богато жили люди!
Лиза с уважением посмотрела на колонну и прошла наверх.
В маленьких квадратных комнатах, с такими низкими потолками, что каждый входящий туда человек казался гигантом, Лиза бродила минут десять.
Это были комнаты, обставленные павловским ампиром, красным деревом и карельской березой - мебелью строгой, чудесной и воинственной. Два квадратных шкафа, стеклянные дверцы которых были крест-накрест пересечены копьями, стояли против письменного стола. Стол был безбрежен. Сесть за него было все равно что сесть за Театральную площадь, причем Большой театр с колоннадой и четверкой бронзовых коняг, волокущих Аполлона на премьеру "Красного мака", показался бы на столе чернильным прибором. Так по крайней мере чудилось Лизе, воспитываемой на морковке как некий кролик. По углам стояли кресла с высокими спинками, верхушки которых были загнуты на манер бараньих рогов. Солнце лежало на персиковой обивке кресел.
В такое кресло хотелось сейчас же сесть, но сидеть на нем воспрещалось.
Лиза мысленно сопоставила, как выглядело бы кресло бесценного павловского ампира рядом с ее матрацем в красную полоску. Выходило - ничего себе. Она прочла на стене табличку с научным и идеологическим обоснованием павловского ампира и, огорчаясь тому, что у нее с Колей нет комнаты в этом дворце, вышла в неожиданный коридор.
По левую руку от самого пола шли низенькие полукруглые окна. Сквозь них, под ногами, Лиза увидела огромный белый двухсветный зал с колоннами. В зале тоже стояла мебель и блуждали посетители. Лиза остановилась. Никогда еще она не видела зала у себя под ногами.
Дивясь и млея, она долго смотрела вниз. Вдруг она заметила, что там от кресел к бюро переходят ее сегодняшние знакомые - Бендер и его спутник, бритоголовый представительный старик.
- Вот хорошо! - сказала Лиза.- Будет не так скучно.
Она очень обрадовалась, побежала вниз и сразу же заблудилась. Она попала в красную гостиную, в которой стояло предметов сорок. Это была ореховая мебель на гнутых ножках. Из гостиной не было выхода. Пришлось бежать назад через круглую комнату с верхним светом, меблированную, казалось, только цветочными подушками.
Она бежала мимо парчовых кресел итальянского Возрождения, мимо голландских шкафов, мимо большой готической кровати с балдахином на черных витых колоннах. Человек на этой постели казался бы не больше ореха.
Наконец Лиза услышала гул экскурсантов, невнимательно слушавших руководителя, обличавшего империалистические замыслы Екатерины II в связи с любовью покойной императрицы к мебели стиля Луи-Сез.
Это и был большой двухсветный зал с колоннами. Лиза прошла в противоположный его конец, где знакомый ей товарищ Бендер жарко беседовал со своим бритоголовым спутником.
Подходя, Лиза услышала звучный голос:
- Мебель в стиле шик-модерн. Но это, кажется, не то, что нам нужно.
- Да, но здесь, очевидно, есть еще и другие залы. Нам необходимо систематически все осмотреть.
- Здравствуйте,- сказала Лиза. Оба повернулись и сразу сморщились.
- Здравствуйте, товарищ Бендер. Хорошо, что я вас нашла. А то одной скучно. Давайте смотреть все вместе.
Концессионеры переглянулись. Ипполит Матвеевич приосанился, хотя ему было неприятно, что Лиза может их задержать в важном деле поисков брильянтовой мебели.
- Мы - типичные провинциалы,- сказал Бендер нетерпеливо,- но как попали сюда вы, москвичка?
- Совершенно случайно. Я поссорилась с Колей.
- Вот как? - заметил Ипполит Матвеевич.
- Ну, покинем этот зал, - сказал Остап.
- А я его еще не смотрела. Он такой красивенький.
- Начинается! - шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу. И, обращаясь к Лизе, добавил: - Смотреть здесь совершенно нечего. Упадочный стиль. Эпоха Керенского.
- Тут где-то, мне говорили, есть мебель мастера Гамбса, - сообщил Ипполит Матвеевич,- туда, пожалуй, отправимся.
Лиза согласилась и, взяв Воробьянинова под руку (он казался ей удивительно милым представителем науки), направилась к выходу. Несмотря на всю серьезность положения и наступивший решительный момент в поисках сокровищ, Бендер, идя позади парочки, игриво смеялся. Его смешил предводитель команчей в роли кавалера.
Лиза сильно стесняла концессионеров. В то время как они одним взглядом определяли, что в комнате нужной мебели нет, и невольно влеклись в следующую, Лиза подолгу застревала в каждом отделе. Она прочитывала вслух все печатные критики на мебель, отпускала острые замечания насчет посетителей и подолгу застаивалась у каждого экспоната. Невольно и совершенно незаметно для себя она приспосабливала виденную мебель к своей комнате и потребностям. Готическая кровать ей совсем не понравилась. Кровать была слишком велика. Если бы даже Коле удалось чудом получить комнату в три квадратных сажени, то и тогда средневековое ложе не поместилось бы в комнате. Однако Лиза долго обхаживала кровать, обмеривала шажками ее подлинную площадь. Лизе было очень весело. Она не замечала кислых физиономий своих спутников, рыцарские характеры которых не позволяли им сломя голову броситься в комнату мастера Гамбса.
- Потерпим,- шепнул Остап, - мебель не уйдет; а вы, предводитель, не жмите девочку. Я ревную.
Воробьянинов самодовольно улыбнулся. Залы тянулись медленно. Им не было конца. Мебель александровской эпохи была представлена многочисленными комплектами. Сравнительно небольшие ее размеры привели Лизу в восторг.
- Смотрите, смотрите! - доверчиво кричала она, хватая Воробьянинова за рукав.- Видите это бюро? Оно чудно подошло бы к нашей комнате. Правда?
- Прелестная мебель! - гневно сказал Остап.- Упадочная только.
- А здесь я уже была,- сказала Лиза, входя в красную гостиную,- здесь, я думаю, останавливаться не стоит.
К ее удивлению, равнодушные к мебели спутники замерли у двери, как часовые.
- Что же вы стали? Пойдемте. Я уже устала.
- Подождите,- сказал Ипполит Матвеевич, освобождаясь от ее руки,- одну минуточку.
Большая комната была перегружена мебелью. Гамбсовские стулья расположились вдоль стены и вокруг стола. Диван в углу тоже окружали стулья. Их гнутые ножки и удобные спинки были захватывающе знакомы Ипполиту Матвеевичу. Остап испытующе смотрел на него. Ипполит Матвеевич стал красным.
- Вы устали, барышня, - сказал он Лизе,- присядьте-ка сюда и отдохните, а мы с ним походим немного. Это, кажется, интересный зал.
Лизу усадили. Концессионеры отошли к окну.
- Они? - спросил Остап.
- Как будто они. Нужно более тщательно осмотреть.
- Все стулья тут?
- Сейчас я посчитаю. Подождите, подождите... Воробьянинов стал переводить глаза со стула на стул.
- Позвольте, - сказал он наконец, - двадцать стульев. Этого не может быть. Их ведь должно быть всего десять.
- А вы присмотритесь хорошо. Может быть, это не те стулья.
Они стали ходить между стульями.
- Ну? - торопил Остап.
- Спинка как будто не такая, как у моих.
- Значит, не те?
- Не те.
- Напрасно я с вами связался, кажется. Ипполит Матвеевич был совершенно подавлен.
- Ладно,- сказал Остап,- заседание продолжается. Стул - не иголка. Найдется. Дайте ордера сюда. Придется вступить в неприятный контакт с администрацией музея. Садитесь рядом с девочкой и сидите. Я сейчас приду.
- Чего это вы такой грустный? - говорила Лиза.- Вы устали?
Ипполит Матвеевич отделывался молчанием.
- У вас голова болит?
- Да, немножко. Заботы, знаете ли. Отсутствие женской ласки сказывается на жизненном укладе.
Лиза сперва удивилась, а потом, посмотрев на своего бритоголового собеседника, и на самом деле его пожалела. Глаза у Воробьянинова были страдальческие. Пенсне не скрывало резко обозначавшихся мешочков. Быстрый переход от спокойной жизни делопроизводителя уездного загса к неудобному и хлопотливому быту охотника за брильянтами и авантюриста даром не дался. Ипполит Матвеевич сильно похудел, и у него стала побаливать печень. Под суровым надзором Бендера Ипполит Матвеевич терял свою физиономию и быстро растворялся в могучем интеллекте сына турецко-подданного. Теперь, когда он на минуту остался вдвоем с очаровательной гражданкой Калачовой, ему захотелось рассказать ей обо всех горестях и волнениях, но он не посмел этого сделать.
- Да,- сказал он, нежно глядя на собеседницу,- такие дела. Как же вы поживаете, Елизавета...
- Петровна. А вас как зовут? Обменялись именами-отчествами.
"Сказка любви дорогой",- подумал Ипполит Матвеевич, вглядываясь в простенькое лицо Лизы. Так страстно, так неотвратимо захотелось старому предводителю женской ласки, отсутствие которой тяжело сказывается на жизненном укладе, что он немедленно взял Лизину лапку в свои морщинистые руки и горячо заговорил о Париже. Ему захотелось быть богатым, расточительным и неотразимым. Ему хотелось увлекать и под шум оркестров пить редереры с красоткой из дамского оркестра в отдельном кабинете. О чем было говорить с этой девочкой, которая, безусловно, ничего не знает ни о редерерах, ни о дамских оркестрах и которая по своей природе даже не может постичь всей прелести этого жанра. А быть увлекательным так хотелось! И Ипполит Матвеевич обольщал Лизу рассказами о Париже.
- Вы научный работник? -спросила Лиза.
- Да, некоторым образом,- ответил Ипполит Матвеевич, чувствуя, что со времени знакомства с Бендером он вновь приобрел не свойственное ему в последние годы нахальство.
- А сколько вам лет, простите за нескромность?
- К науке, которую я в настоящий момент представляю, это не имеет отношения.
Этим быстрым и метким ответом Лиза была покорена.
- Но все-таки? Тридцать? Сорок? Пятьдесят?
- Почти. Тридцать восемь.
- Ого! Вы выглядите значительно моложе. Ипполит Матвеевич почувствовал себя счастливым.
- Когда вы доставите мне счастье увидеться с вами снова? - спросил Ипполит Матвеевич в нос.
Лизе стало очень стыдно. Она заерзала в кресле и затосковала.
- Куда это товарищ Бендер запропастился? - сказала она тоненьким голосом.
- Так когда же? - спросил Воробьянинов нетерпеливо.- Когда и где мы увидимся?
- Ну, я не знаю. Когда хотите.
- Сегодня можно?
- Сегодня?
- Умоляю вас.
- Ну, хорошо. Пусть сегодня. Заходите к нам.
- Нет, давайте встретимся на воздухе. Теперь такие погоды замечательные. Знаете стихи: "Это май-баловник, это май-чародей веет свежим своим опахалом".
- Это Жарова стихи?
- М-м... Кажется. Так сегодня? Где же?
- Какой вы странный! Где хотите. Хотите - у несгораемого шкафа? Знаете? Когда стемнеет...
Едва Ипполит Матвеевич успел поцеловать Лизе руку, что он сделал весьма торжественно, в три разделения, как вернулся Остап. Остап был очень деловит.
- Простите, мадемуазель,- сказал он быстро,- но мы с приятелем не сможем вас проводить. Открылось небольшое, но очень важное дельце. Нам надо срочно отправиться в одно место.
У Ипполита Матвеевича захватило дыханье.
- До свиданья, Елизавета Петровна,- сказал он поспешно,- простите, простите, простите, но мы страшно спешим.
И компаньоны убежали, оставив удивленную Лизу в комнате, обильно обставленной гамбсовской мебелью.
- Если бы не я,- сказал Остап, когда они спускались по лестнице,- ни черта бы не вышло. Молитесь на меня! Молитесь, молитесь, не бойтесь, голова не отвалится! Слушайте! Ваша мебель музейного значения не имеет. Ей место не в музее, а в казарме штрафного батальона. Вы удовлетворены этой ситуацией?
- Что за издевательство! -воскликнул Воробьянинов, начавший было освобождаться из-под ига могучего интеллекта сына турецко-подданного.
- Молчание,- холодно сказал Остап,- вы не знаете, что происходит. Если мы сейчас не захватим нашу мебель - кончено. Никогда нам ее не видать. Только что я имел в конторе тяжелый разговорчик с заведующим этой исторической свалкой.
- Ну, и что же? - закричал Ипполит Матвеевич.- Что же сказал вам заведующий?
- Сказал все, что надо. Не волнуйтесь. "Скажите,- спросил я его,- чем объяснить, что направленная вам по ордеру мебель из Старгорода не имеется в наличности?" Спросил я это, конечно, любезно, в товарищеском порядке. "Какая это мебель? - спрашивает он. - У меня в музее таких фактов не наблюдается". Я ему сразу ордера подсунул. Он полез в книги. Искал полчаса и наконец возвращается. Ну, как вы себе представляете? Где эта мебель?
- Пропала? - пискнул Воробьянинов.
- Представьте себе, нет. Представьте себе, что в таком кавардаке она уцелела. Как я вам уже говорил, музейной ценности она не имеет. Ее свалили в склад, и только вчера, заметьте себе, вчера, через семь лет (она лежала на складе семь лет!), она была отправлена в аукцион на продажу. Аукцион Главнауки. И, если ее не купили вчера или сегодня утром, она наша! Вы удовлетворены?
- Скорее! - закричал Ипполит Матвеевич.
- Извозчик! - завопил Остап. Они сели не торгуясь.
- Молитесь на меня, молитесь! Не бойтесь, гофмаршал! Вино, женщины и карты нам обеспечены. Тогда рассчитаемся и за голубой жилет.
В пассаж на Петровке, где помещается аукционный зал, концессионеры вбежали бодрые, как жеребцы.
В первой же комнате аукциона они увидели то, что так долго искали. Все десять стульев Ипполита Матвеевича стояли вдоль стенки на своих гнутых ножках. Даже обивка на них не потемнела, не выгорела, не попортилась. Стулья были свежие и чистые, как будто только что вышли из-под надзора рачительной Клавдии Ивановны.
- Они? - спросил Остап.
- Боже, боже,- твердил Ипполит Матвеевич,- они, они. Они самые. На этот раз сомнений никаких.
- На всякий случай проверим,- сказал Остап, стараясь быть спокойным.
Он подошел к продавцу:
- Скажите, эти стулья, кажется, из мебельного музея?
- Эти? Эти - да.
- А они продаются?
- Продаются.
- Какая цена?
- Цены еще нет. Они у нас идут с аукциона.
- Ага. Сегодня?
- Нет. Сегодня торг уже кончился. Завтра с пяти часов.
- А сейчас они не продаются?
- Нет. Завтра, с пяти часов.
Так, сразу же, уйти от стульев было невозможно.
- Разрешите,- пролепетал Ипполит Матвеевич,- осмотреть. Можно?
Концессионеры долго рассматривали стулья, садились на них, смотрели для приличия и другие вещи. Воробьянинов сопел и все время подталкивал Остапа локтем.
- Молитесь на меня! - шептал Остап.- Молитесь, предводитель.
Ипполит Матвеевич был готов не только молиться на Остапа, но даже целовать подметки его малиновых штиблет.
- Завтра, - говорил он, - завтра, завтра, завтра. Ему хотелось петь.
Глава XIX. Баллотировка по-европейски
В то время как друзья вели культурно-просветительный образ жизни, посещали музеи и делали авансы девушкам, в Старгороде, на улице Плеханова, двойная вдова Грицацуева, женщина толстая и слабая, совещалась и конспирировала со своими соседками. Все скопом рассматривали оставленную Бендером записку и даже разглядывали ее на свет. Но водяных знаков на ней не было, а если бы они и были, то и тогда таинственные каракули великолепного Остапа не стали бы более ясными.
Прошло три дня. Горизонт оставался чистым. Ни Бендер, ни чайное ситечко, ни дутый браслетик, ни стул не возвращались. Все эти одушевленные и неодушевленные предметы пропали самым загадочным образом.
Тогда вдова приняла радикальные меры. Она пошла в контору "Старгородской правды", и там ей живо состряпали объявление:
УМОЛЯЮ
лиц, знающих местопребывание.
Ушел из дому т. Бендер, лет 25-30.
Одет в зеленый костюм, желтые ботинки
и голубой жилет. Брюнет.
Указавш. прошу сообщ. за приличн.
вознагражд. Ул. Плеханова, 15, Грицацуевой.
- Это ваш сын? - участливо осведомились в конторе.
- Муж он мне! - ответила страдалица, закрывая лицо платком.
- Ах, муж!
- Законный. А что?
- Да ничего. Вы бы в милицию все-таки обратились.
Вдова испугалась. Милиции она страшилась. Провожаемая странными взглядами, вдова ушла.
Троекратно прозвучал призыв со страниц "Старгородской правды". Но молчала великая страна. Не нашлось лиц, знающих местопребывание брюнета в желтых ботинках. Никто не являлся за приличным вознаграждением. Соседки судачили.
Чело вдовы омрачалось с каждым днем все больше. И странное дело: муж мелькнул, как ракета, утащив с собой в черное небо хороший стул и семейное ситечко, а вдова все любила его. Кто может понять сердце женщины, особенно вдовой?
К трамваю в Старгороде уже привыкли и садились в него безбоязненно. Кондуктора кричали свежими голосами: "Местов нет", и все шло так, будто трамвай заведен в городе еще при Владимире Красное Солнышко. Инвалиды всех групп, женщины с детьми и Виктор Михайлович Полесов садились в вагоны с передней площадки. На крик: "Получите билеты!"- Полесов важно говорил: "Годовой",- и оставался рядом с вагоновожатым. Годового билета у него не было и не могло быть.
Пребывание Воробьянинова и великого комбинатора оставило в городе глубокий след.
Заговорщики тщательно хранили доверенную им тайну. Молчал даже Виктор Михайлович, которого так и подмывало выложить волнующие его секреты первому встречному. Однако, вспоминая могучие плечи Остапа, Полесов крепился. Душу он отводил только в разговорах с гадалкой.
- А как вы думаете, Елена Станиславовна,- говорил он,- чем объяснить отсутствие наших руководителей?
Елену Станиславовну это тоже весьма интересовало, но она не имела никаких сведений.
- А не думаете ли вы, Елена Станиславовна,- продолжал неугомонный слесарь,- что они выполняют сейчас особое задание?
Гадалка была убеждена, что это именно так. Того же мнения придерживался, видно, и попугай в красных подштанниках. Он смотрел на Полесова своим круглым разумным глазом, как бы говоря: "Дай семечек, и я тебе сейчас все расскажу. Виктор, ты будешь губернатором. Тебе будут подчинены все слесаря. А дворник дома № 5 так и останется дворником, возомнившим о себе хамом".
- А не думаете ли вы, Елена Станиславовна, что нам нужно продолжать работу? Как-никак, нельзя сидеть сложа руки!
Гадалка согласилась и заметила:
- А ведь Ипполит Матвеевич герой!
- Герой, Елена Станиславовна! Ясно. А этот боевой офицер с ним? Деловой человек! Как хотите, Елена Станиславовна, а дело так стоять не может. Решительно не может.
И Полесов начал действовать. Он делал регулярные визиты всем членам тайного общества "Меча и орала", особенно допекая осторожного владельца "Одесской бубличной артели - "Московские баранки", гражданина Кислярского. При виде Полесова Кислярский чернел. А слова о необходимости действовать доводили боязливого бараночника до умоисступления.
К концу недели все собрались у Елены Станиславовны в комнате с попугаем. Полесов кипел.
- Ты, Виктор, не болбочи,- говорил ему рассудительный Дядьев,- чего ты целыми днями по городу носишься?
- Надо действовать! - кричал Полесов.
-- Действовать надо, а вот кричать совершенно не надо. Я, господа, вот как себе все это представляю. Раз Ипполит Матвеевич сказал - дело святое. И, надо полагать, ждать нам осталось недолго. Как все это будет происходить, нам и знать не надо: на то военные люди есть. А мы часть гражданская - представители городской интеллигенции и купечества. Нам что важно? Быть готовыми. Есть у нас что-нибудь? Центр у нас есть? Нету. Кто станет во главе города? Никого нет. А это, господа, самое главное. Англичане, господа, с большевиками, кажется, больше церемониться не будут. Это нам первый признак. Все переменится, господа, и очень быстро. Уверяю вас.
- Ну, в этом мы и не сомневаемся,- сказал Чарушников, надуваясь.
- И прекрасно, что не сомневаетесь. Как ваше мнение, господин Кислярский? И ваше, молодые люди?
Никеша и Владя всем своим видом выразили уверенность в быстрой перемене. А Кислярский, понявший со слов главы торговой фирмы "Быстроупак", что ему не придется принимать непосредственного участия в вооруженных столкновениях, обрадованно поддакнул.
- Что же нам сейчас делать? - нетерпеливо спросил Виктор Михайлович.
- Погодите,- сказал Дядьев,- берите пример со спутника господина Воробьянинова. Какая ловкость! Какая осторожность! Вы заметили, как он быстро перевел дело на помощь беспризорным? Так нужно действовать и нам. Мы только помогаем детям. Итак, господа, наметим кандидатуры!
- Ипполита Матвеевича Воробьянинова мы предлагаем в предводители дворянства! - воскликнули молодые люди Никеша и Владя.
Чарушников снисходительно закашлялся.
- Куда там! Он не меньше чем министром будет. А то и выше подымай - в диктаторы!
- Да что вы, господа,- сказал Дядьев,- предводитель - дело десятое! О губернаторе нам надо думать, а не о предводителе. Давайте начнем с губернатора. Я думаю...
- Господина Дядьева! - восторженно закричал Полесов.- Кому же еще взять бразды над всей губернией?
- Я очень польщен доверием...- начал Дядьев. Но тут выступил внезапно покрасневший Чарушников.
- Этот вопрос, господа,- сказал он с надсадой в голосе,- следовало бы провентилировать.
На Дядьева он старался не смотреть. Владелец "Быстроупака" гордо рассматривал свои сапоги, на которые налипли деревянные стружки.
- Я не возражаю,- вымолвил он,- давайте пробаллотируем. Закрытым голосованием или открытым?
- Нам по-советскому не надо,- обиженно сказал Чарушников,- давайте голосовать по-честному, по-европейски - закрыто.
Голосовали бумажками. За Дядьева было подано четыре записки. За Чарушникова - две. Кто-то воздержался. По лицу Кислярского было видно, что это он. Ему не хотелось портить отношений с будущим губернатором, кто бы он ни был.
Когда трепещущий Полесов огласил результаты честной европейской баллотировки, в комнате воцарилось тягостное молчание. На Чарушникова старались не смотреть. Неудачливый кандидат в губернаторы сидел как оплеванный.
Елене Станиславовне было очень его жалко. Это она голосовала за него.
Другой голос Чарушников, искушенный в избирательных делах, подал за себя сам. Добрая Елена Станиславовна тут же сказала:
- А городским головой я предлагаю выбрать все-таки мосье Чарушникова.
- Почему же - все-таки? - проговорил великодушный губернатор.- Не все-таки, а именно его и никого другого. Общественная деятельность господина Чарушникова нам хорошо известна.
- Просим, просим! - закричали все.
- Так считать избрание утвержденным? Оплеванный Чарушников ожил и даже запротестовал:
- Нет, нет, господа, я прошу пробаллотировать. Городского голову даже скорее нужно баллотировать, чем губернатора. Если уж, господа, вы хотите оказать мне доверие, то, пожалуйста, очень прошу вас, пробаллотируйте!
В пустую сахарницу посыпались бумажки.
- Шесть голосов - за,- сказал Полесов,- и один воздержался.
- Поздравляю вас, господин голова! - сказал Кислярский, по лицу которого было видно, что воздержался он и на этот раз.- Поздравляю вас!
Чарушников расцвел. - Остается освежиться, ваше превосходительство,- сказал он Дядьеву.- Слетай-ка, Полесов, в "Октябрь". Деньги есть?
Полесов сделал рукой таинственный жест и убежал. Выборы на время прервали и продолжали их уже за ужином.
Попечителем учебного округа наметили бывшего директора дворянской гимназии, ныне букиниста, Распопова. Его очень хвалили. Только Владя, выпивший три рюмки водки, вдруг запротестовал:
- Его нельзя выбирать. Он мне на выпускном экзамене двойку по логике поставил.
На Владю набросились.
- В такой решительный час,- закричали ему,- нельзя помышлять о собственном благе! Подумайте об отечестве.
Владю так быстро сагитировали, что даже он сам голосовал за своего мучителя. Распопов был избран всеми голосами при одном воздержавшемся.
Кислярскому предложили пост председателя биржевого комитета. Он против этого не возражал, но при голосовании на всякий случай воздержался.
Перебирая знакомых и родственников, выбрали: полицмейстера, заведующего пробирной палатой, акцизного, податного и фабричного инспектора; заполнили вакансии окружного прокурора, председателя, секретаря и членов суда; наметили председателей земской и купеческой управы, попечительства о детях и, наконец, мещанской управы. Елену Станиславовну выбрали попечительницей обществ "Капля молока" и "Белый цветок". Никешу и Владю назначили, за их молодостью, чиновниками для особых поручений при губернаторе.
- Паз-звольте! - воскликнул вдруг Чарушников.- Губернатору целых два чиновника! А мне?
- Городскому голове,- мягко сказал губернатор,- чиновников для особых поручений не полагается по штату.
- Ну, тогда секретаря.
Дядьев согласился. Оживилась и Елена Станиславовна.
- Нельзя ли, - сказала она, робея,- тут у меня есть один молодой человек, очень милый и воспитанный мальчик. Сын мадам Черкесовой... Очень, очень милый, очень способный... Он безработный сейчас. На бирже труда состоит. У него есть даже билет. Его обещали на днях устроить в союз... Не сможете ли вы взять его к себе? Мать будет очень благодарна.
- Пожалуй, можно будет,- милостиво сказал Чарушников,- как вы смотрите на это, господа? Ладно. В общем, я думаю, удастся.
- Что ж,- заметил Дядьев, - кажется, в общих чертах... все? Все как будто?
- Д я? - раздался вдруг тонкий, волнующийся голос.
Все обернулись. В углу, возле попугая, стоял вконец расстроенный Полесов. У Виктора Михайловича на черных веках закипали слезы. Всем стало очень совестно. Гости вспомнили вдруг, что пьют водку Полесова и что он вообще один из главных организаторов старгородского отделения "Меча и орала".
Елена Станиславовна схватилась за виски и испуганно вскрикнула.
- Виктор Михайлович! - застонали все.- Голубчик! Милый! Ну, как вам не стыдно? Ну, чего вы стали в углу? Идите сюда сейчас же!
Полесов приблизился. Он страдал. Он не ждал от товарищей по мечу и оралу такой черствости. Елена Станиславовна не вытерпела.
- Господа, - сказала она,- это ужасно! Как вы могли забыть дорогого всем нам Виктора Михайловича?
Она поднялась и поцеловала слесаря-аристократа в закопченный лоб.
- Неужели же, господа, Виктор Михайлович не сможет быть достойным попечителем учебного округа или полицмейстером?
- А, Виктор Михайлович? - спросил губернатор.- Хотите быть попечителем?
- Ну, конечно же, он будет прекрасным, гуманным попечителем! - поддержал городской голова, глотая грибок и морщась.
- А Распо-опов? - обидчиво протянул Виктор Михайлович.- Вы же уже назначили Распопова?
- Да, в самом деле, куда девать Распопова?
- В брандмейстеры, что ли?..
- В брандмейстеры? - заволновался вдруг Виктор Михайлович.
Перед ним мгновенно возникли пожарные колесницы, блеск огней, звуки труб и барабанная дробь. Засверкали топоры, закачались факелы, земля разверзлась, и вороные драконы понесли его. на пожар городского театра.
- Брандмейстером? Я хочу быть брандмейстером!
- Ну, вот и отлично! Поздравляю вас. Отныне вы брандмейстер.
- За процветание пожарной дружины! - иронически сказал председатель биржевого комитета.
На Кислярского набросились все:
- Вы всегда были левым! Знаем вас!
- Господа, какой же я левый?
- Знаем, знаем!..
- Левый!
- Все евреи левые.
- Но, ей-богу, господа, этих шуток я не понимаю.
- Левый, левый, не скрывайте!
- Ночью спит и видит во сне Милюкова!
- Кадет! Кадет!
- Кадеты Финляндию продали,- замычал вдруг Чарушников,- у японцев деньги брали! Армяшек разводили.
Кислярский не вынес потока неосновательных обвинений. Бледный, поблескивая глазками, председатель биржевого комитета ухватился за спинку стула и звенящим голосом сказал:
- Я всегда был октябристом и останусь им. Стали разбираться в том, кто какой партии сочувствует.
- Прежде всего, господа, демократия, - сказал Чарушников,- наше городское самоуправление должно быть демократичным. Но без кадетишек. Они нам довольно нагадили в семнадцатом году!
- Надеюсь,- ядовито заинтересовался губернатор,- среди нас нет так называемых социал-демократов?
Левее октябристов, которых на заседании представлял Кислярский, не было никого. Чарушников объявил себя "центром". На крайнем правом фланге стоял брандмейстер. Он был настолько правым, что даже не знал, к какой партии принадлежит.
Заговорили о войне.
- Не сегодня-завтра,- сказал Дядьев.
- Будет война, будет.
- Советую запастись кое-чем, пока не поздно.
- Вы думаете? - встревожился Кислярский.
- А вы как полагаете? Вы думаете, что во время войны можно будет что-нибудь достать? Сейчас же мука с рынка долой! Серебряные монетки - как сквозь землю, бумажечки пойдут всякие, почтовые марки, имеющие хождение наравне, и всякая такая штука.
- Война - дело решенное.
- Вы как знаете,- сказал Дядьев,- а я все свободные средства бросаю на закупку предметов первой необходимости.
- А ваши дела с мануфактурой?
- Мануфактура сама собой, а мука и сахар своим порядком. Так что советую и вам. Советую настоятельно.
Полесов усмехнулся.
- Как же большевики будут воевать? Чем? Чем они будут воевать? Старыми винтовками? А воздушный флот? Мне один видный коммунист говорил, что у них - ну, как вы думаете, сколько аэропланов?
- Штук двести!
- Двести? Не двести, а тридцать два! А у Франции восемьдесят тысяч боевых самолетов.
- Да-а... Довели большевики до ручки. Разошлись за полночь.
Губернатор пошел провожать городского голову, Оба шли преувеличенно ровно.
- Губернатор! - говорил Чарушников.- Какой же ты губернатор, когда ты не генерал?
- Я штатским генералом буду, а тебе завидно? Когда захочу, посажу тебя в тюремный замок. Насидишься у меня.
- Меня нельзя посадить. Я баллотированный, облеченный доверием.
- За баллотированного двух небаллотированных дают.
- Па-апрашу со мной не острить! - закричал вдруг Чарушников на всю улицу.
- Что же ты, дурак, кричишь? - спросил губернатор.- Хочешь в милиции ночевать?
- Мне нельзя в милиции ночевать,- ответил городской голова,- я советский служащий...
Сияла звезда. Ночь была волшебна. На Второй Советской продолжался спор губернатора с городским головой.
Глава XX. От севильи до гренады
Позвольте, а где же отец Федор? Где стриженый священник церкви Фрола и Лавра? Он, кажется собирался пойти на Виноградную улицу, в дом № 34, к гражданину Брунсу? Где же этот кладоискатель в образе ангела и заклятый враг Ипполита Матвеевича Воробьянинова, дежурящего ныне в темном коридоре у несгораемого шкафа?
Исчез отец Федор. Завертела его нелегкая. Говорят, что видели его на станции Попасная, Донецких дорог. Бежал он по перрону с чайником кипятку...
Взалкал отец Федор. Захотелось ему богатства. Понесло его по России за гарнитуром генеральши Поповой, в котором, надо признаться, ни черта нет.
Едет отец по России. Только письма жене пишет.
ПИСЬМО ОТЦА ФЕДОРА,
писанное им в Харькове, на вонзале,
своей шене в уездный город N
Голубушка моя, Катерина Александровна!
Весьма перед тобою виноват. Бросил тебя, бедную, одну в такое время.
Должен тебе все рассказать. Ты меня поймешь и, можно надеяться, согласишься.
Ни в какие живоцерковцы я, конечно, не пошел и идти не думал, и боже меня от этого упаси.
Теперь читай внимательно. Мы скоро заживем иначе. Помнишь, я тебе говорил про свечной заводик. Будет он у нас, и еще кое-что, может быть, будет. И не придется уже тебе самой обеды варить да еще столовников держать. В Самару поедем и наймем прислугу.
Тут дело такое, но ты его держи в большом секрете, никому, даже Марье Ивановне, не говори. Я ищу клад. Помнишь покойную Клавдию Ивановну Петухову, воробьяниновскую тещу? Перед смертью Клавдия Ивановна открылась мне, что в ее доме, в Старгороде, в одном из гостиных стульев (их всего двенадцать) запрятаны ее брильянты.
Ты, Катенька, не подумай, что я вор какой-нибудь. Эти брильянты она завещала мне и велела их стеречь от Ипполита Матвеевича, ее давнишнего мучителя.
Вот почему я тебя, бедную, бросил так неожиданно. Ты уж меня не виновать.
Приехал я в Старгород, и представь себе - этот старый женолюб тоже там очутился. Узнал как-то. Видно, старуху перед смертью пытал. Ужасный человек! И с ним ездит какой-то уголовный преступник,- нанял себе бандита. Они на меня прямо набросились, сжить со свету хотели. Да я не такой, мне пальца в рот не клади, не дался.
Сперва я попал на ложный путь. Один стул только нашел в воробьяниновском доме (там ныне богоугодное заведение); несу я мою мебель к себе в номера "Сорбонна", и вдруг из-за угла с рыканьем человек на меня лезет, как лев" набросился и схватился за стул. Чуть до драки не дошло. Осрамить меня хотели. Потом я пригляделся, смотрю - Воробьянинов. Побрился, представь себе, и голову оголил, аферист, позорится на старости лет.
Разломали мы стул - ничего там нету. Это потом я понял, что на ложный путь попал. А в то время очень огорчался.
Стало мне обидно, и я этому развратнику всю правду в лицо выложил.
"Какой, говорю, срам на старости лет, какая, говорю, дикость в России теперь настала: чтобы предводитель дворянства на священнослужителя, аки лев, бросался и за беспартийность упрекал! Вы, говорю, низкий человек, мучитель Клавдии Ивановны и охотник за чужим добром, которое теперь государственное, а не его".
Стыдно ему стало, и он ушел от меня прочь, в публичный дом, должно быть.
А я пошел к себе в номера "Сорбонна" и стал обдумывать дальнейший план. И сообразил я то, что дураку этому бритому никогда бы в голову не пришло: я решил найти человека, который распределял реквизированную мебель. Представь себе, Катенька, недаром я на юридическом факультете обучался - пошло на пользу. Нашел я этого человека. На другой же день нашел. Варфоломеич - очень порядочный старичок. Живет себе со старухой бабушкой, тяжелым трудом хлеб добывает. Он мне все документы дал. Пришлось, правда, вознаградить за такую услугу. Остался без денег (но об этом после). Оказалось, что все двенадцать гостиных стульев из воробьяниновского дома попали к инженеру Брунсу, на Виноградную улицу, дом № 34. Заметь, что все стулья попали к одному человеку, чего я никак не ожидал (боялся, что стулья попадут в разные места). Я очень этому обрадовался. Тут как раз в "Сорбонне" я снова встретился с мерзавцем Воробьяниновым. Я хорошенько отчитал его и его друга, бандита, не пожалел. Я очень боялся, что они проведают мой секрет, и затаился в гостинице до тех пор, покуда они не съехали.

Возвращаясь к себе в номер в 'Сорбонне'
Брунс, оказывается, из Старгорода выехал в 1923 году в Харьков, куда его назначили служить. От дворника я выведал, что он увез с собою всю мебель и очень ее сохраняет. Человек он, говорят, степенный.
Сижу теперь в Харькове на вокзале и пишу вот по какому случаю. Во-первых, очень тебя люблю и вспоминаю, а во-вторых, Брунса здесь уже нет. Но ты не огорчайся. Брунс служит теперь в Ростове, в "Новоросцементе", как я узнал. Денег у меня на дорогу в обрез. Выезжаю через час товаро-пассажирским. А ты, моя добрая, зайди, пожалуйста, к зятю, возьми у него пятьдесят рублей (он мне должен и обещался отдать) и вышли в Ростов: главный почтамт, до востребования, Федору Иоанновичу Вострикову. Перевод, в видах экономии, пошли почтой. Будет стоить тридцать копеек.
Что у нас слышно в городе? Что нового?
Приходила ли к тебе Кондратьевна? Отцу Кириллу скажи, что скоро вернусь: мол, к умирающей тетке в Воронеж поехал. Экономь средства. Обедает ли еще Евстигнеев? Кланяйся ему от меня. Скажи, что к тетке уехал.
Как погода? Здесь, в Харькове, совсем лето. Город шумный - центр Украинской республики.- После провинции кажется, будто за границу попал;
Сделай:
1) мою летнюю рясу в чистку отдай (лучше 3 р. за чистку отдать, чем на новую тратиться), 2) здоровье береги, 3) когда Гуленьке будешь писать, упомяни невзначай, что я к тетке уехал в Воронеж.
Кланяйся всем от меня. Скажи, что скоро приеду.
Нежно целую, обнимаю и благословляю.
Нотабене: где-то теперь рыщет Воробьянинов?
Любовь сушит человека. Бык мычит от страсти. Петух не находит себе места. Предводитель дворянства теряет аппетит.
Бросив Остапа и студента Иванопуло в трактире, Ипполит Матвеевич пробрался в розовый домик и занял позицию у несгораемой кассы. Он слышал шум отходящих в Кастилию поездов и плеск отплывающих пароходов.
Гаснут дальней Альпухары Золотистые края.
Сердце шаталось, как маятник. В ушах тикало.
На призывный звон гитары Выйди, милая моя.
Тревога носилась по коридору. Ничто не могло растопить холод несгораемого шкафа.
От Севильи до Гренады В тихом сумраке ночей...
В пеналах стонали граммофоны. Раздавался пчелиный гул примусов.
Раздаются серенады, Раздается звон мечей...
Словом, Ипполит Матвеевич был влюблен до крайности в Лизу Калачову.
Многие люди проходили по коридору мимо Ипполита Матвеевича, но от них пахло табаком, или водкой, или аптекой, или суточными щами. Во мраке коридора людей можно было различать только по запаху или тяжести шагов. Лиза не проходила. В этом Ипполит Матвеевич был уверен. Она не курила, не пила водки и не носила сапог, подбитых железными дольками. Йодом или головизной пахнуть от нее не могло. От нее мог произойти только нежнейший запах рисовой кашицы или вкусно изготовленного сена, которым госпожа Нордман-Северова так долго кормила знаменитого художника Илью Репина.
Но вот послышались легкие, неуверенные шаги. Кто-то шел по коридору, натыкаясь на его эластичные стены и сладко бормоча.
- Это вы, Елизавета Петровна? - спросил Ипполит Матвеевич зефирным голоском.
В ответ пробасили:
- Скажите, пожалуйста, где здесь живут Пфеферкорны? Тут в темноте ни черта не разберешь.
Ипполит Матвеевич испуганно замолчал. Искатель Пфеферкорнов недоуменно подождал ответа и, не дождавшись его, пополз дальше.
Только к девяти часам пришла Лиза. Они вышли на улицу, под карамельно-зеленое вечернее небо.
- Где же мы будем гулять? - спросила Лиза.
Ипполит Матвеевич поглядел на ее белое светящееся лицо и, вместо того чтобы прямо сказать: "Я здесь, Инезилья, стою под окном",- начал длинно и нудно говорить о том, что давно не был в Москве и что Париж не в пример лучше Белокаменной, которая, как ни крути, остается бессистемно распланированной большой деревней.
- Помню я Москву, Елизавета Петровна, не такой. Сейчас во всем скаредность чувствуется. А мы в свое время денег не жалели. "В жизни живём мы только раз" - есть такая песенка.
Прошли через весь Пречистенский бульвар и вышли на набережную, к храму Христа-спасителя.
За Москворецким мостом тянулись черно-бурые лисьи хвосты. Электрические станции Могэса дымили, как эскадра. Трамваи перекатывались через мосты. По реке шли лодки. Грустно повествовала гармоника.
Ухватившись за руку Ипполита Матвеевича, Лиза рассказала ему обо всех своих огорчениях. Про ссору с мужем, про трудную жизнь среди подслушивающих соседей - бывших химиков - и об однообразии вегетарианского стола.
Ипполит Матвеевич слушал и соображал. Демоны просыпались в нем. Мнился ему замечательный ужин. Он пришел к заключению, что такую девушку нужно чем-нибудь оглушить.
- Пойдемте в театр,- предложил Ипполит Матвеевич.
- Лучше в кино,- сказала Лиза,- в кино дешевле.
- О! При чем тут деньги! Такая ночь, и вдруг какие-то деньги.
Совершенно разошедшиеся демоны, не торгуясь, посадили парочку на извозчика и повезли в кино "Аре". Ипполит Матвеевич был великолепен. Он взял самые дорогие билеты. Впрочем, до конца сеанса не дотерпели. Лиза привыкла сидеть на дешевых местах, вблизи, и плохо видела из дорогого тридцать четвертого ряда.
В кармане Ипполита Матвеевича лежала половина суммы, полученной концессионерами от старгородских заговорщиков. Это были большие деньги для отвыкшего от роскоши Воробьянинова. Теперь, взволнованный возможностью легкой любви, он собирался ослепить Лизу широтою размаха. Для этого он считал себя великолепно подготовленным. Он с гордостью вспомнил, как легко покорил когда-то сердце прекрасной Елены Боур. Привычка тратить деньги легко и помпезно была ему присуща. Воспитанностью и умением вести разговор с любой дамой он славился в Старгороде. Ему показалось смешным затратить весь свой старорежимный лоск на покорение маленькой советской девочки, которая ничего еще толком не видела и не знала.
После недолгих уговоров Ипполит Матвеевич повез Лизу в "Прагу", образцовую столовую МСПО - "лучшее место в Москве",- как говорил ему Бендер.
"Прага" поразила Лизу обилием зеркал, света и цветочных горшков. Лизе это было простительно: она никогда еще не посещала больших образцово-показательных ресторанов. Но зеркальный зал совсем неожиданно поразил и Ипполита Матвеевича. Он отстал, забыл ресторанный уклад. Теперь ему было положительно стыдно за свои баронские сапоги с квадратными носами, штучные довоенные брюки и лунный жилет, осыпанный серебряной звездой.
Оба смутились и замерли на виду у всей довольно разношерстной публики.
- Пройдемте туда, в угол,- предложил Воробьянинов, хотя у самой эстрады, где оркестр выпиливал дежурное попурри из "Баядерки", были свободные столики.
Чувствуя, что на нее все смотрят, Лиза быстро согласилась. За нею смущенно последовал светский лев и покоритель женщин Воробьянинов. Потертые брюки светского льва свисали с худого зада мешочком. Покоритель женщин сгорбился и, чтобы преодолеть смущение, стал протирать пенсне.
Никто не подошел к столу. Этого Ипполит Матвеевич не ожидал. И он, вместо того чтобы галантно беседовать со своей дамой, молчал, томился, несмело стучал пепельницей по столу и бесконечно откашливался. Лиза с любопытством смотрела по сторонам, молчание становилось неестественным. Но Ипполит Матвеевич не мог вымолвить ни слова. Он забыл, что именно он всегда говорил в таких случаях.
- Будьте добры! - взывал он к пролетавшим мимо работникам нарпита.
- Сию минуточку-с! - кричали официанты на ходу.
Наконец карточка была принесена. Ипполит Матвеевич с чувством облегчения углубился в нее.
- Однако, - пробормотал он, - телячьи котлеты - два двадцать пять, филе - два двадцать пять, водка - пять рублей.
- За пять рублей большой графин-с,- сообщил официант, нетерпеливо оглядываясь.
"Что со мной? - ужасался Ипполит Матвеевич.- Я становлюсь смешон".
- Вот, пожалуйста, - сказал он Лизе с запоздалой вежливостью,- не угодно ли выбрать? Что будете есть?
Лизе было совестно. Она видела, как гордо смотрел официант на ее спутника, и понимала, что он делает что-то не то.
- Я совсем не хочу есть,- сказала она дрогнувшим голосом.- Или вот что... Скажите, товарищ, нет ли у вас чего-нибудь вегетарианского?
Официант стал топтаться, как конь.
- Вегетарианского не держим-с. Разве омлет с ветчиной?
- Тогда вот что,- сказал Ипполит Матвеевич, решившись, - дайте нам сосисок. Вы ведь будете есть сосиски, Елизавета Петровна?
- Буду.
- Так вот. Сосиски. Вот эти, по рублю двадцать пять. И бутылку водки.
- В графинчике будет.
- Тогда - большой графин.
Работник нарпита посмотрел на беззащитную Лизу прозрачными глазами.
- Водку чем будете закусывать? Икры свежей? Семги? Расстегайчиков?
В Ипполите Матвеевиче продолжал бушевать делопроизводитель загса.
- Не надо,- с неприятной грубостью сказал он.- Почем у вас огурцы соленые? Ну, хорошо, дайте два.
Официант убежал, и за столиком снова водворилось молчание. Первой заговорила Лиза:
- Я здесь никогда не была. Здесь очень мило.
- Да-а,- протянул Ипполит Матвеевич, высчитывая стоимость заказанного.
"Ничего,- думал он,- выпью водки - разойдусь. А то, в самом деле, неловко как-то".
Но когда выпил водки и закусил огурцом, то не разошелся, а помрачнел еще больше. Лиза не пила. Натянутость не исчезла. А тут еще к столику подошел человек и, ласкательно глядя на Лизу, предложил купить цветы.
Ипполит Матвеевич притворился, что не замечает усатого цветочника, но тот не уходил. Говорить при нем любезности было совершенно невозможно.
На время выручила концертная программа. На эстраду вышел сдобный мужчина в визитке и лаковых туфлях.
- Ну, вот мы снова увиделись с вами,- развязно сказал он в публику.- Следующим номером нашей консертной пррогрраммы выступит мировая исполнительница русских народных песен, хорошо известная в Марьиной Роще, Варвара Ивановна Годлевская. Варвара Ивановна! Пожалуйте!
Ипполит Матвеевич пил водку и молчал. Так как Лиза не пила и все время порывалась уйти домой, надо было спешить, чтобы выпить весь графин.
Когда на сцену вышел куплетист в рубчатой бархатной толстовке, сменивший певицу, известную в Марьиной Роще, и запел:
Ходите,
Вы всюду бродите,
Как будто ваш аппендицит
От хождения будет сыт,
Ходите,
Та-ра-ра-ра,-
Ипполит Матвеевич уже порядочно захмелел и, вместе со всеми посетителями образцовой столовой, которых он еще полчаса тому назад считал грубиянами и скаредными советскими бандитами, захлопал в такт ладошами и стал подпевать:
Ходите,
Та-ра-ра-ра...
Он часто вскакивал и, не извинившись, уходил в уборную. Соседние столики его уже называли дядей и приваживали к себе на бокал пива. Но он не шел. Он стал вдруг гордым и подозрительным. Лиза решительно встала из-за стола:
- Я пойду. А вы оставайтесь. Я сама дойду.
- Нет, зачем же? Как дворянин, не могу допустить! Сеньор! Счет! Ха-мы!..
На счет Ипполит Матвеевич смотрел долго, раскачиваясь на стуле.
- Девять рублей двадцать копеек? - бормотал он.- Может быть, вам еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат?
Кончилось тем, что Ипполита Матвеевича свели вниз, бережно держа под руки. Лиза не могла убежать, потому что номерок от гардероба был у великосветского льва.
В первом же переулке Ипполит Матвеевич навалился на Лизу плечом и стал хватать ее руками. Лиза молча отдиралась.
- Слушайте! - говорила она.- Слушайте! Слушайте!
- Поедем в номера! - убеждал Воробьянинов. Лиза с силой высвободилась и, не примериваясь, ударила покорителя женщин кулачком в нос. Сейчас же свалилось пенсне с золотой дужкой и, попав под квадратный носок баронских сапог, с хрустом раскрошилось.
Ночной зефир Струит эфир...
Лиза, захлебываясь слезами, побежала по Серебряному переулку к себе домой.
Шумит, Бежит Гвадалквивир.
Ослепленный Ипполит Матвеевич мелко затрусил в противоположную сторону, крича:
- Держи вора!
Потом он долго плакал и, еще плача, купил у старушки все ее баранки вместе с корзиной. Он вышел на Смоленский рынок, пустой и темный, и долго расхаживал там взад и вперед, разбрасывая баранки, как сеятель бросает семена. При этом он немузыкально кричал:
Ходите,
Вы всюду бродите,
Та-ра-ра-ра...

'Сеятель бросает семена'
Затем Ипполит Матвеевич подружился с лихачом, раскрыл ему всю душу и сбивчиво рассказал про брильянты.
- Веселый барин! - воскликнул извозчик.
Ипполит Матвеевич действительно развеселился. Как видно, его веселье носило несколько предосудительный характер, потому что часам к одиннадцати утра он проснулся в отделении милиции. Из двухсот рублей, которыми он так позорно начал ночь наслаждений и утех, при нем оставалось только двенадцать.
Ему казалось, что он умирает. Болел позвоночник, ныла печень, а на голову, он чувствовал, ему надели свинцовый котелок. Но ужаснее всего было то, что он решительно не помнил, где и как он мог истратить такие большие деньги. По дороге домой пришлось зайти к оптику и вставить в оправу пенсне новые стекла.
Остап долго, с удивлением, рассматривал измочаленную фигуру Ипполита Матвеевича, но ничего не сказал. Он был холоден и готов к борьбе.
Глава XXI. Экзекуция
Аукционный торг открывался в пять часов. Доступ граждан для обозрения вещей начинался с четырех. Друзья явились в три и целый час рассматривали машиностроительную выставку, помещавшуюся тут же рядом.
- Похоже на то,- сказал Остап,- что уже завтра мы сможем, при наличии доброй воли, купить этот паровозик. Жалко, что цена не проставлена. Приятно все-таки иметь собственный паровоз.
Ипполит Матвеевич маялся. Только стулья могли его утешить.
От них он отошел лишь в ту минуту, когда на кафедру взобрался аукционист в клетчатых брюках "столетье" и бороде, ниспадавшей на толстовку русского коверкота.
Концессионеры заняли места в четвертом ряду справа. Ипполит Матвеевич начал сильно волноваться. Ему казалось, что стулья будут продаваться сейчас же. Но они стояли сорок третьим номером, и в продажу поступала сначала обычная аукционная гиль и дичь: разрозненные гербовые сервизы, соусник, серебряный подстаканник, пейзаж художника Петунина, бисерный ридикюль, совершенно новая горелка от примуса, бюстик Наполеона, полотняные бюстгальтеры, гобелен "Охотник, стреляющий диких уток" и прочая галиматья.
Приходилось терпеть и ждать. Ждать было очень трудно: все стулья налицо; цель была близка, ее можно было достать рукой,
"А большой бы здесь начался переполох,- подумал Остап, оглядывая аукционную публику,- если бы они узнали, какой огурчик будет сегодня продаваться под видом этих стульев".
- Фигура, изображающая правосудие! - провозгласил аукционист.- Бронзовая. В полном порядке. Пять рублей. Кто больше? Шесть с полтиной, справа, в конце - семь. Восемь рублей в первом ряду, прямо. Второй раз, восемь рублей, прямо. Третий раз, в первом ряду, прямо.
К гражданину из первого ряда сейчас же понеслась девица с квитанцией для получения денег.
Стучал молоточек аукциониста. Продавались пепельницы из дворца, стекло баккара, пудреница фарфоровая.
Время тянулось мучительно.
- Бронзовый бюстик Александра Третьего. Может служить пресс-папье. Больше, кажется, ни на что не годен. Идет с предложенной цены бюстик Александра Третьего.
В публике засмеялись.
- Купите, предводитель,- съязвил Остап,- вы, кажется, любите.
Ипполит Матвеевич не отводил глаз от стульев и молчал.
- Нет желающих? Снимается с торга бронзовый бюстик Александра Третьего. Фигура, изображающая правосудие. Кажется, парная к только что купленной. Василий, покажите публике "Правосудие". Пять рублей. Кто больше?
В первом ряду прямо послышалось сопенье. Как видно, гражданину хотелось иметь "Правосудие" в полном составе.
- Пять рублей - бронзовое "Правосудие"!
- Шесть! - четко сказал гражданин.
- Шесть рублей прямо. Семь. Девять рублей, в конце справа.
- Девять с полтиной, - тихо сказал любитель "Правосудия", поднимая руку.
- С полтиной, прямо. Второй раз, с полтиной, прямо. Третий раз, с полтиной.
Молоточек опустился. На гражданина из первого ряда налетела барышня.
Он уплатил и поплелся в другую комнату получать свою бронзу.
- Десять стульев из дворца! - сказал вдруг аукционист.
- Почему из дворца? - тихо ахнул Ипполит Матвеевич.
Остап рассердился:
- Да идите вы к черту! Слушайте и не рыпайтесь!
- Десять стульев из дворца. Ореховые. Эпохи Александра Второго. В полном порядке. Работы мебельной мастерской Гамбса. Василий, подайте один стул под рефлектор.
Василий так грубо потащил стул, что Ипполит Матвеевич привскочил.
- Да сядьте вы, идиот проклятый, навязался на мою голову! - зашипел Остап.- Сядьте, я вам говорю!
У Ипполита Матвеевича заходила нижняя челюсть. Остап сделал стойку. Глаза его посветлели.
- Десять стульев ореховых. Восемьдесят рублей.
Зал оживился. Продавалась вещь, нужная в хозяйстве. Одна за другой выскакивали руки. Остап был спокоен.
- Чего же вы не торгуетесь? - набросился на него Воробьянинов.
- Пошел вон,- ответил Остап, стиснув зубы.
- Сто двадцать рублей, позади. Сто тридцать пять, там же. Сто сорок.
Остап спокойно повернулся спиной к кафедре и с усмешкой стал рассматривать своих конкурентов.
Был разгар аукциона. Свободных мест уже не было. Как раз позади Остапа дама, переговорив с мужем, польстилась на стулья ("Чудные полукресла! Дивная работа! Саня! Из дворца же!") и подняла руку.
- Сто сорок пять, в пятом ряду справа. Раз. Зал потух. Слишком дорого.
- Сто сорок пять. Два.
Остап равнодушно рассматривал лепной карниз. Ипполит Матвеевич сидел, опустив голову, и вздрагивал.
- Сто сорок пять. Три.
Но, прежде чем черный лакированный молоточек ударился о фанерную кафедру, Остап повернулся, выбросил вверх руку и негромко сказал:
- Двести.
Все головы повернулись в сторону концессионеров. Фуражки, кепки, картузы и шляпы пришли в движение. Аукционист поднял скучающее лицо и посмотрел па Остапа.
- Двести, раз,- сказал он,- двести, в четвертом ряду справа, два. Нет больше желающих торговаться? Двести рублей, гарнитур ореховый дворцовый из десяти предметов. Двести рублей - три, в четвертом ряду справа.
Рука с молоточком повисла над кафедрой.
- Мама! - сказал Ипполит Матвеевич громко. Остап, розовый и спокойный, улыбался. Молоточек упал, издавая небесный звук.
- Продано,- сказал аукционист.- Барышня! В четвертом ряду справа.
- Ну, председатель, эффектно? - спросил Остап.- Что бы, интересно знать, вы делали без технического руководителя?
Ипполит Матвеевич счастливо ухнул. К ним рысью приближалась барышня.
- Вы купили стулья?
- Мы! - воскликнул долго сдерживавшийся Ипполит Матвеевич.- Мы, мы. Когда их можно будет взять?
- А когда хотите. Хоть сейчас!
Мотив "Ходите, вы всюду бродите" бешено запрыгал в голове Ипполита Матвеевича. "Наши стулья, наши, наши, наши!" Об этом кричал весь его организм. "Наши!" - кричала печень. "Наши!" - подтверждала слепая кишка.
Он так обрадовался, что у него в самых неожиданных местах объявились пульсы. Все это вибрировало, раскачивалось и трещало под напором неслыханного счастья. Стал виден поезд, приближающийся к Сен-Готарду. На открытой площадке последнего вагона стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов в белых брюках и курил сигару. Эдельвейсы тихо падали на его голову, снова украшенную блестящей алюминиевой сединой. Он катил в Эдем.
- А почему же двести тридцать, а не двести? - услышал Ипполит Матвеевич.
Это говорил Остап, вертя в руках квитанцию.
- Включается пятнадцать процентов комиссионного сбора,- ответила барышня.
- Ну, что же делать! Берите!
Остап вытащил бумажник, отсчитал двести рублей и повернулся к главному директору предприятия:
- Гоните тридцать рублей, дражайший, да поживее: не видите - дамочка ждет. Ну?
Ипполит Матвеевич не сделал ни малейшей попытки достать деньги.
- Ну? Что же вы на меня смотрите, как солдат на вошь? Обалдели от счастья?
- У меня нет денег, - пробормотал наконец Ипполит Матвеевич.
- У кого нет? - спросил Остап очень тихо.
- У меня.
- А двести рублей?!
- Я... м-м-м... п-потерял.
Остап посмотрел на Воробьянинова, быстро оценил помятость его лица, зелень щек и раздувшиеся мешки под глазами.
- Дайте деньги! - прошептал он с ненавистью.- Старая сволочь!
- Так вы будете платить? - спросила барышня.
- Одну минуточку,- сказал Остап, чарующе улыбаясь,- маленькая заминка.
Была еще маленькая надежда. Можно было уговорить подождать с деньгами.
Тут очнувшийся Ипполит Матвеевич, разбрызгивая слюну, ворвался в разговор.
- Позвольте! - завопил он.- Почему комиссионный сбор? Мы ничего не знаем о таком сборе! Надо предупреждать. Я отказываюсь платить эти тридцать рублей.
- Хорошо, - сказала барышня кротко,- я сейчас все устрою.
Взяв квитанцию, она унеслась к аукционисту и сказала ему несколько слов. Аукционист сейчас же поднялся. Борода его сверкала под светом сильных электрических ламп.
- По правилам аукционного торга,- звонко заявил он,- лицо, отказывающееся уплатить полную сумму за купленный им предмет, должно покинуть зал. Торг на стулья отменяется.
Изумленные друзья сидели недвижимо.
- Папрашу вас! - сказал аукционист.
Эффект был велик. В публике злобно смеялись. Остап все-таки не вставал. Таких ударов он не испытывал давно.
- Па-апра-ашу вас!
Аукционист пел голосом, не допускающим возражений.
Смех в зале усилился.
И они ушли. Мало кто уходил из аукционного зала с таким горьким чувством. Первым шел Воробьянинов. Согнув прямые костистые плечи, в укоротившемся пиджачке и глупых баронских сапогах, он шел, как журавль, чувствуя за собой теплый, дружественный взгляд великого комбинатора.
Концессионеры остановились в комнате, соседней с аукционным залом. Теперь они могли смотреть на торжище только через стеклянную дверь. Путь туда был уже прегражден. Остап дружественно молчал.
- Возмутительные порядки,- трусливо забормотал Ипполит Матвеевич,- форменное безобразие! В милицию на них нужно жаловаться.
Остап молчал.
- Нет, действительно это ч-черт знает что такое! - продолжал горячиться Воробьянинов.- Дерут с трудящихся втридорога. Ей-богу!.. За какие-то подержанные десять стульев двести тридцать рублей. С ума сойти.
- Да,- деревянно сказал Остап.
- Правда? - переспросил Воробьянинов.- Сума сойти можно!
- Можно.
Остап подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок.
- Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!
Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука.
Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой.
- Ну, теперь пошел вон!
Остап повернулся спиной к директору предприятия и стал смотреть в аукционный зал. Через минуту он оглянулся.
Ипполит Матвеевич все еще стоял позади, сложив руки по швам.
- Ах, вы еще здесь, душа общества? Пошел! Ну?
- Това-арищ Бендер,- взмолился Воробьянинов.- Товарищ Бендер!
- Иди! Иди! И к Иванопуло не приходи! Выгоню!
- Това-арищ Бендер!
Остап больше не оборачивался. В зале произошло нечто, так сильно заинтересовавшее Бендера, что он приотворил дверь и стал прислушиваться.
- Все пропало! - пробормотал он.
- Что пропало? - угодливо спросил Воробьянинов.
- Стулья отдельно продают, вот что. Может быть, желаете приобрести? Пожалуйста. Я вас не держу. Только сомневаюсь, чтобы вас пустили. Да и денег у вас, кажется, не густо.
В это время в аукционном зале происходило следующее: аукционист, почувствовавший, что выколотить из публики двести рублей сразу не удастся (слишком крупная сумма для мелюзги, оставшейся в зале), решил получить эти двести рублей по кускам. Стулья снова поступили в торг, но уже по частям.
- Четыре стула из дворца. Ореховые. Мягкие. Работы Гамбса. Тридцать рублей. Кто больше?
К Остапу быстро вернулись его решительность и хладнокровие.
- Ну, вы, дамский-любимец, стойте здесь и никуда не выходите. Я через пять минут приду. А вы тут смотрите кто и что. Чтоб ни один стул не ушел.
В голове Бендера сразу созрел план, единственно возможный при таких тяжелых условиях, в которых они очутились.
Он выбежал на Петровку, направился к ближайшему асфальтовому чану и вступил в деловой разговор с беспризорными.
Он, как и обещал, вернулся к Ипполиту Матвеевичу через пять минут. Беспризорные стояли Наготове у входа в аукцион.
- Продают, продают, - зашептал Ипполит Матвеевич,- четыре и два уже продали.
- Это вы удружили, - сказал Остап,- радуйтесь. В руках все было, понимаете - в руках. Можете вы это понять?
В зале раздавался скрипучий голос, дарованный природой одним только аукционистам, крупье и стекольщикам:
- С полтиной, налево. Три. Еще один стул из дворца. Ореховый. В полной исправности. С полтиной, прямо. Раз - с полтиной, прямо.
Три стула были проданы поодиночке. Аукционист объявил к продаже последний стул. Злость душила Остапа. Он снова набросился на Воробьянинова. Оскорбительные замечания его были полны горечи. Кто знает, до чего дошел бы Остап в своих сатирических упражнениях, если бы его не прервал быстро подошедший мужчина в костюме лодзинских коричневых цветов. Он размахивал пухлыми руками, наклонялся, прыгал и отскакивал, словно играл в теннис.
- А скажите,- поспешно спросил он Остапа, - здесь в самом деле аукцион? Да? Аукцион? И здесь в самом деле продаются вещи? Замечательно!
Незнакомец отпрыгнул, и лицо его озарилось множеством улыбок.
- Вот здесь действительно продают вещи? И в самом деле можно дешево купить? Высокий класс! Очень, очень! Ах!..
Незнакомец, виляя толстенькими бедрами, пронесся в зал мимо ошеломленных концессионеров и так быстро купил последний стул, что Воробьянинов только крякнул. Незнакомец с квитанцией в руках подбежал к прилавку выдачи.
- А скажите, стул можно сейчас взять? Замечательно!.. Ах!.. Ах!..
Беспрерывно блея и все время находясь в движении, незнакомец погрузил стул на извозчика и укатил. По его следам бежал беспризорный.
Мало-помалу разошлись и разъехались все новые собственники стульев. За ними мчались несовершеннолетние агенты Остапа. Ушел и он сам. Ипполит Матвеевич боязливо следовал позади. Сегодняшний день казался ему сном. Все произошло быстро и совсем не так, как ожидалось.
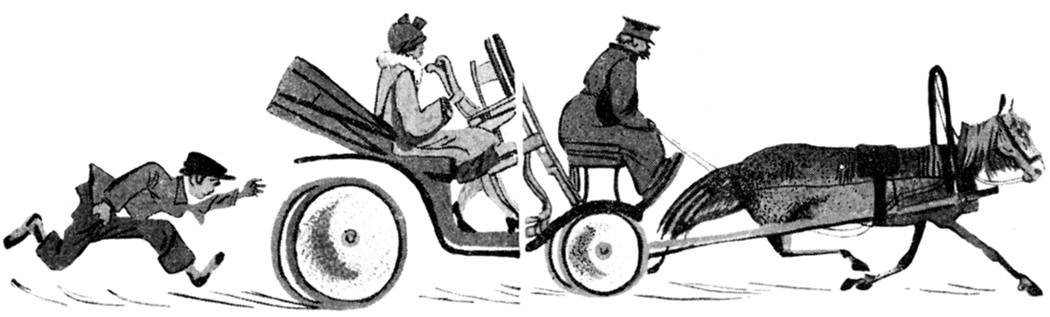
Несовершеннолетние агенты Остапа выслеживали собственников стульев
На Сивцевом Вражке рояли, мандолины и гармоники праздновали весну. Окна были распахнуты. Цветники в глиняных горшочках заполняли подоконники. Толстый человек, с раскрытой волосатой грудью, в подтяжках, стоял у окна и страстно пел. Вдоль стены медленно пробирался кот. В продуктовых палатках пылали керосиновые лампочки.
У розового домика прогуливался Коля. Увидев Остапа, шедшего впереди, он вежливо с ним раскланялся и подошел к Воробьянинову. Ипполит Матвеевич сердечно его приветствовал. Коля, однако, не стал терять времени.
- Добрый вечер,- решительно сказал он и, не в силах сдержаться, ударил Ипполита Матвеевича в ухо.
Одновременно с этим Коля произнес довольно пошлую, по мнению наблюдавшего за этой сценой Остапа, фразу: - Так будет со всеми,- сказал Коля детским голосом,- кто покусится...
На что именно покусится, Коля не договорил. Он поднялся на носках и, закрыв глаза, хлопнул Воробьянинова по щеке.
Ипполит Матвеевич приподнял локоть, но не посмел даже пикнуть,
- Правильно,- приговаривал Остап,- а теперь по шее. Два раза. Так. Ничего не поделаешь. Иногда яйцам приходится учить зарвавшуюся курицу... Еще разок... Так. Не стесняйтесь. По голове больше не бейте. Это самое слабое его место.
Если бы старгородские заговорщики видели гиганта мысли и отца русской демократии в эту критическую для него минуту, то, надо думать, тайный союз "Меча и орала" прекратил бы свое существование.
- Ну, кажется, хватит,- сказал Коля, пряча руку в карман.
- Еще один разик,- умолял Остап.
- Ну его к черту! Будет знать другой раз!
Коля ушел. Остап поднялся к Иванопуло и посмотрел вниз. Ипполит Матвеевич стоял наискось от дома, прислонясь к чугунной посольской ограде.
- Гражданин Михельсон! - крикнул Остап.- Конрад Карлович! Войдите в помещение! Я разрешаю!
В комнату Ипполит Матвеевич вошел уже слегка оживший.
- Неслыханная наглость! - сказал он гневно.- Я еле сдержал себя.
- Ай-яй-яй,- посочувствовал Остап,- какая теперь молодежь пошла! Ужасная молодежь! Преследует чужих жен! Растрачивает чужие деньги... Полная упадочность! А скажите, когда бьют по голове, в самом деле больно?
- Я его вызову на дуэль!
- Чудно! Могу вам отрекомендовать моего хорошего знакомого. Знает дуэльный кодекс наизусть и обладает двумя вениками, вполне пригодными для борьбы не на жизнь, а на смерть. В секунданты можно взять Иванопуло и соседа справа. Он - бывший почетный гражданин города Кологрива и до сих пор кичится этим титулом. А можно устроить дуэль на мясорубках- это элегантнее. Каждое ранение безусловно смертельно. Пораженный противник механически превращается в котлету. Вас это устраивает, предводитель?
В это время с улицы донесся свист, и Остап отправился получать агентурные сведения от беспризорных.
Беспризорные отлично справились с возложенным на них поручением. Четыре стула попали в театр Колумба. Беспризорный подробно рассказал, как эти стулья везли на тачке, как их выгрузили и втащили в здание через артистический ход. Местоположение театра Остапу было хорошо известно.
Два стула увезла на извозчике, как сказал другой юный следопыт, "шикарная чмара". Мальчишка, как видно, большими способностями не отличался. Переулок, в который привезли стулья,- Варсонофьевский,- он знал, помнил даже, что номер квартиры семнадцатый, но номер дома никак не мог вспомнить.
- Очень шибко бежал,- сказал беспризорный,- из головы выскочило.
- Не получишь денег,- заявил наниматель.
- Дя-адя!.. Да я тебе покажу.
- Хорошо! Оставайся. Пойдем вместе.
Блеющий гражданин жил, оказывается, на Садовой - Спасской. Точный адрес его Остап записал в блокнот.
Восьмой стул поехал в Дом народов. Мальчишка, преследовавший этот стул, оказался пронырой. Преодолевая заграждения в виде комендатуры и многочисленных курьеров, он проник в дом и убедился, что стул был куплен завхозом редакции "Станка".
Двух мальчишек еще не было. Они прибежали почти одновременно, запыхавшиеся и утомленные.
- Казарменный переулок, у Чистых Прудов.
- Номер?
- Девять. И квартира девять. Там татары рядом живут. Во дворе. Я ему и стул донес. Пешком шли.
Последний гонец принес печальные вести. Сперва все было хорошо, но потом все стало плохо. Покупатель вошел со стулом в товарный двор Октябрьского вокзала, и пролезть за ним было никак нельзя - у ворот стояли стрелки ОВО НКПС.
- Наверно, уехал,- закончил беспризорный свой доклад.
Это очень встревожило Остапа. Наградив беспризорных по-царски, - рубль на гонца, не считая вестника с Варсонофьевского переулка, забывшего номер дома (ему было велено явиться на другой день пораньше), - технический директор вернулся домой и, не отвечая на расспросы осрамившегося председателя правления, принялся комбинировать.
- Ничего еще не потеряно. Адреса есть, а для того, чтобы добыть стулья, существует много старых, испытанных приемов: 1) простое знакомство, 2) любовная интрига, 3) знакомство со взломом, 4) обмен и 5) деньги. Последнее - самое верное. Но денег мало.
Остап иронически посмотрел на Ипполита Матвеевича. К великому комбинатору вернулись обычная свежесть мысли и душевное равновесие. Деньги, конечно, можно будет достать. В запасе имелись: картина "Большевики пишут письмо Чемберлену", чайное ситечко и полная возможность продолжать карьеру многоженца.
Беспокоил только десятый стул. След, конечно, был, но какой след! - расплывчатый и туманный.
- Ну, что ж,- сказал Остап громко. - На такие шансы ловить можно. Играю девять против одного. Заседание продолжается! Слышите? Вы! Присяжный заседатель!
Глава XXII. Людоедка Эллочка
Словарь Вильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет двенадцать тысяч слов. Словарь негра из людоедского племени "Мумбо-Юмбо" составляет триста слов.
Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью.
Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка:
1. Хамите.
2. Хо-хо! (Выражает, в зависимости от обстоятельств: иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.)
3. Знаменито.
4. Мрачный. (По отношению ко всему. Например: "мрачный Петя пришел", "мрачная погода", "мрачный случай", "мрачный кот" и т. д.)
5. Мрак.
6. Жуть. (Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой: "жуткая встреча".)
7. Парниша. (По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения.)
8. Не учите меня жить.
9. Как ребенка. ("Я бью его, как ребенка", - при игре в карты. "Я его срезала, как ребенка", - как видно, в разговоре с ответственным съемщиком.)
10. Кр-р-расота!
11. Толстый и красивый. (Употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов.)
12. Поедем на извозчике. (Говорится мужу,)
13. Поедем в таксо. (Знакомым мужского пола.)
14. У вас вся спина белая. (Шутка.)
15. Подумаешь.
16. Уля. (Ласкательное окончание имен. Например: Мишуля, Зинуля.)
17. Ого! (Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.)
Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов.
Если рассмотреть фотографии Эллочки Щукиной, висящие над постелью ее мужа, инженера Эрнеста Павловича Щукина (одна - анфас, другая - в профиль), то не трудно заметить лоб приятной высоты и выпуклости, большие влажные глаза, милейший в Московской губернии носик и подбородок с маленьким, нарисованным тушью пятнышком.
Рост Эллочки льстил мужчинам. Она была маленькая, и даже самые плюгавые мужчины рядом с нею выглядели большими и могучими мужами.
Что же касается особых примет, то их не было. Эллочка и не нуждалась в них. Она была красива.
Двести рублей, которые ежемесячно получал ее муж на заводе "Электролюстра", для Эллочки были оскорблением. Они никак не могли помочь той грандиозной борьбе, которую Эллочка вела уже четыре года, с тех пор как заняла общественное положение домашней хозяйки, жены Щукина. Борьба велась с полным напряжением сил. Она поглощала все ресурсы. Эрнест Павлович брал на дом вечернюю работу, отказался от прислуги, разводил примус, выносил мусор и даже жарил котлеты.
Но все было бесплодно. Опасный враг уже разрушал хозяйство с каждым годом все больше. Эллочка четыре года тому назад заметила, что у нее есть соперница за океаном. Несчастье посетило Эллочку в тот радостный вечер, когда она примеряла очень миленькую крепдешиновую кофточку. В этом наряде она казалась почти богиней.
- Хо-хо! - воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные чувства, захватившие ее.
Упрощенно чувства эти можно было бы выразить в следующей фразе: "Увидев меня такой, мужчины взволнуются. Они задрожат. Они пойдут за мной на край света, заикаясь от любви. Но я буду холодна. Разве они стоят меня? Я самая красивая. Такой элегантной кофточки нет ни у кого на земном шаре".
Но слов было всего тридцать, и Эллочка выбрала из них наиболее выразительное - "хо-хо".
В такой великий час к ней пришла Фима Собак. Она принесла с собой морозное дыхание января и французский журнал мод. На первой странице Эллочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, необыкновенная легкость покроя и умопомрачительная прическа. Это решило все.
- Ого! - сказала Эллочка сама себе. Это значило: "Или я, или она".
Утро другого дня застало Эллочку в парикмахерской. Здесь она потеряла прекрасную черную косу и перекрасила волосы в рыжий цвет. Затем удалось подняться еще на одну ступеньку той лестницы, которая приближала Эллочку к сияющему раю, где прогуливаются дочки миллиардеров, не годящиеся домашней хозяйке Щукиной даже в подметки. По рабкредиту была куплена собачья шкура, изображавшая выхухоль. Она была употреблена на отделку вечернего туалета.
Мистер Щукин, давно лелеявший мечту о покупке новой чертежной доски, несколько приуныл.
Платье, отороченное собакой, нанесло заносчивой Вандербильдихе первый меткий удар. Потом гордой американке были нанесены три удара подряд. Эллочка приобрела у домашнего скорняка Фимочки Собак шиншилловый палантин (русский заяц, умерщвленный в Тульской губернии), завела себе голубиную шляпу из аргентинского фетра и перешила новый пиджак мужа в модный дамский жакет. Миллиардерша покачнулась, но ее, как видно, спас любвеобильный папа Вандербильд.
Очередной номер журнала мод заключал в себе портреты проклятой соперницы в четырех видах: 1) в чернобурых лисах, 2) с брильянтовой звездой во лбу, 3) в авиационном костюме (высокие сапожки, тончайшая зеленая куртка и перчатки, раструбы которых были инкрустированы изумрудами средней величины) и 4) в бальном туалете (каскады драгоценностей и немножко шелку).
Эллочка произвела мобилизацию. Папа-Щукин взял ссуду в кассе взаимопомощи. Больше тридцати рублей ему не дали. Новое мощное усилие в корне подрезало хозяйство. Приходилось бороться во всех областях жизни. Недавно были получены фотографии мисс в ее Новом замке во Флориде. Пришлось и Эллочке обзавестись новой мебелью. Она купила на аукционе два мягких стула. (Удачная покупка! Никак нельзя было пропустить!) Не спросясь мужа, Эллочка взяла деньги из обеденных сумм. До пятнадцатого осталось десять дней и четыре рубля.
Эллочка с шиком провезла стулья по Варсонофьевскому переулку. Мужа дома не было. Впрочем, он скоро явился, таща с собой портфель-сундук.
- Мрачный муж пришел,- отчетливо сказала Эллочка.
Все слова произносились ею отчетливо и выскакивали бойко, как горошины.
- Здравствуй, Еленочка, а это что такое? Откуда стулья?
- Хо-хо!
- Нет, в самом деле?
- Кр-расота!
- Да. Стулья хорошие. - Зна-ме-ни-тые!
- Подарил кто-нибудь?
- Ого?
- Как?! Неужели ты купила? На какие же средства? Неужели на хозяйственные? Ведь я тебе тысячу раз говорил...
- Эрнестуля! Хамишь!
- Ну, как же так можно делать?! Ведь нам же есть нечего будет!
- Подумаешь!
- Но ведь это возмутительно! Ты живешь не по средствам!
- Шутите!
- Да, да. Вы живете не по средствам...
- Не учите меня жить!
- Нет, давай поговорим серьезно. Я получаю двести рублей...
- Мрак!
- Взяток не беру, денег не краду и подделывать их не умею...
- Жуть!
Эрнест Павлович замолчал.
- Вот что,- сказал он наконец,- так жить нельзя.
- Хо-хо,- сказала Эллочка, садясь на новый стул.
- Нам надо разойтись.
- Подумаешь!
- Мы не сходимся характерами. Я...
- Ты толстый и красивый парниша.
- Сколько раз я просил не называть меня парнишей!
- Шутите!
- И откуда у тебя этот идиотский жаргон!
- Не учите меня жить!
- О, черт! - крикнул инженер.
- Хамите, Эрнестуля.
- Давай разойдемся мирно.
- Ого!
- Ты мне ничего не докажешь! Этот спор...
- Я побью тебя, как ребенка.
- Нет, это совершенно невыносимо. Твои доводы не могут меня удержать от того шага, который я вынужден сделать. Я сейчас же иду за ломовиком.
- Шутите!
- Мебель мы делим поровну.
- Жуть!
- Ты будешь получать сто рублей в месяц. Даже сто двадцать. Комната останется у тебя. Живи, как тебе хочется, а я так не могу...
- Знаменито,- сказала Эллочка презрительно.
- А я перееду к Ивану Алексеевичу.
- Ого!
- Он уехал на дачу и оставил мне на лето всю свою квартиру. Ключ у меня... Только мебели нет.
- Кр-расота!
Эрнест Павлович через пять минут вернулся с дворником.
- Ну, гардероб я не возьму, он тебе нужнее, а вот письменный стол, уж будь так добра... И один этот стул возьмите, дворник. Я возьму один из этих двух стульев. Я думаю, что имею на это право?!
Эрнест Павлович связал свои вещи в большой узел, завернул сапоги в газету и повернулся к дверям.
- У тебя вся спина белая, - сказала Эллочка граммофонным голосом.
- До свидания, Елена.
Он ждал, что жена хоть в этом случае воздержится от обычных, металлических словечек. Эллочка также почувствовала всю важность минуты. Она напряглась и стала искать подходящие для разлуки слова. Они быстро нашлись:
- Поедешь в таксо? Кр-расота! Инженер лавиной скатился по лестнице.
Вечер Эллочка провела с Фимой Собак. Они обсуждали необычайно важное событие, грозившее опрокинуть мировую экономику.
- Кажется, будут носить длинное и широкое,- говорила Фима, по-куриному окуная голову в плечи.
- Мрак.
И Эллочка с уважением посмотрела на Фиму Собак. Мадмуазель Собак слыла культурной девушкой: в ее словаре было около ста восьмидесяти слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово: гомосексуализм. Фима Собак, несомненно, была культурной девушкой.
Оживленная беседа затянулась далеко за полночь.
В десять часов утра великий комбинатор вошел в Варсонофьевский переулок. Впереди бежал давешний беспризорный мальчик. Он указал, дом.
- Не врешь?
- Что вы, дядя... Вот сюда, в парадное.
Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль.
- Прибавить надо,- сказал мальчик по-извозчичьи.
- От мертвого осла уши. Получишь у Пушкина. До свидания, дефективный.
Остап постучал в дверь, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдет. Для разговоров с дамочками он предпочитал вдохновение.
- Ого? - спросили из-за двери.
- По делу,- ответил Остап.
Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, переделанный из толстовки Эрнеста Павловича и отороченный загадочным мехом.
Остап сразу понял, как вести себя в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад.
- Прекрасный мех! - воскликнул он.
-- Шутите! - сказала Эллочка нежно.- Это мексиканский тушкан.
- Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да! Барсы! Я знаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!.. Изумруд! Изумруд!
Эллочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна.
Не давая хозяйке опомниться, великий комбинатор вывалил все, что слышал когда-либо о мехах. После этого заговорили о шелке, и Остап обещал подарить очаровательной хозяйке несколько сот шелковых коконов, якобы привезенных ему председателем ЦИК Узбекистана.
- Вы - парниша что надо,- заметила Эллочка после первых минут знакомства.
- Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины?
- Хо-хо!
- Но я к вам по одному деликатному делу.
- Шутите!
- Вы вчера были на аукционе и произвели на меня чрезвычайное впечатление.
- Хамите!
- Помилуйте! Хамить такой очаровательной женщине бесчеловечно.
- Жуть!
Беседа продолжалась дальше в таком же направлении, дающем, однако, в некоторых случаях чудесные плоды. Но комплименты Остапа раз от разу становились все водянистее и короче. Он заметил; что второго стула в комнате не было. Пришлось нащупывать след. Перемежая свои расспросы цветистой восточной лестью, Остап узнал о событиях, происшедших вчера в Эллочкиной жизни.
"Новое дело,- подумал он,- стулья расползаются, как тараканы".
- Милая девушка,- неожиданно сказал Остап,- продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь. Продайте, девочка, а я вам дам семь рублей.
- Хамите, парниша,- лукаво сказала Эллочка.
- Хо-хо,- втолковывал Остап.
"С ней нужно действовать иначе, - решил он,- предложим обмен".
- Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду - разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно.
Эллочка насторожилась.
- Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная вещь.
- Должно быть, знаменито,- заинтересовалась Эллочка.
- Ого! Хо-хо! Давайте обменяемся. Вы мне - стул, а я вам - ситечко. Хотите?
И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко.
Солнце каталось в ситечке, как яйцо. По потолку сигали зайчики. Неожиданно осветился темный угол комнаты. На Эллочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из-под консервов на людоеда Мумбо-Юмбо. В таких случаях людоед кричит полным голосом, Эллочка же тихо застонала:
- Хо-хо!
Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и, узнав у очаровательной женщины адрес мужа, галантно раскланялся.
Глава XXIII. Авессалом Владимирович Изнуренков
Для концессионеров началась страдная пора. Остап утверждал, что стулья нужно ковать, пока они горячи. Ипполит Матвеевич был амнистирован, хотя время от времени Остап допрашивал его:
- И какого черта я с вами связался? Зачем вы мне, собственно говоря? Поехали бы себе домой, в загс. Там вас покойники ждут, новорожденные. Не мучьте младенцев. Поезжайте!
Но в душе великий комбинатор привязался к одичавшему предводителю. "Без него не так смешно жить",- думал Остап. И он весело поглядывал на Воробьянинова, у которого на голове уже пророс серебряный газончик.
В плане работ инициативе Ипполита Матвеевича было отведено порядочное место. Как только тихий Иванопуло уходил, Бендер вдалбливал в голову компаньона кратчайшие пути к отысканию сокровищ:
- Действовать смело. Никого не расспрашивать. Побольше цинизма. Людям это нравится. Через третьих лиц ничего не предпринимать. Дураков больше нет. Никто для вас не станет таскать брильянты из чужого кармана. Но и без уголовщины. Кодекс мы должны чтить.
И тем не менее розыски шли без особенного блеска. Мешали Уголовный кодекс и огромное количество буржуазных предрассудков, сохранившихся у обитателей столицы. Они, например, терпеть не могли ночных визитов через форточку. Приходилось работать только легально.
В комнате студента Иванопуло в день посещения Остапом Эллочки Щукиной появилась мебель. Это был стул, обмененный на чайное ситечко, - третий по счету трофей экспедиции. Давно уже прошло то время, когда охота за брильянтами вызывала в компаньонах мощные эмоции, когда они рвали стулья когтями и грызли их пружины.
- Даже если в стульях ничего нет,- говорил Остап,- считайте, что мы заработали десять тысяч по крайней мере. Каждый вскрытый стул прибавляет нам шансы. Что из того, что в дамочкином стуле ничего нет? Из-за этого не надо его ломать. Пусть Иванопуло помеблируется. Нам самим приятнее.
В тот же день концессионеры выпорхнули из розового домика и разошлись в разные стороны. Ипполиту Матвеевичу был поручен блеющий незнакомец с Садовой-Спасской, дано двадцать пять рублей на расходы, велено в пивные не заходить и без стула не возвращаться. На себя великий комбинатор взял Эллочкиного мужа.
Ипполит Матвеевич пересек город на автобусе № 6. Трясясь на кожаной скамеечке и взлетая под самый лаковый потолок кареты, он думал о том, как узнать фамилию блеющего гражданина, под каким предлогом к нему войти, что сказать первой фразой и как приступить к самой сути.
Высадившись у Красных ворот, он нашел по записанному Остапом адресу нужный дом и принялся ходить вокруг да около. Войти он не решался. Это была старая, грязная московская гостиница, превращенная в жилтоварищество, укомплектованное, судя по обшарпанному фасаду, злостными неплательщиками.
Ипполит Матвеевич долго стоял против подъезда, подходил к нему, затвердил наизусть рукописное объявление с угрозами по адресу нерадивых жильцов и, ничего не надумав, поднялся на второй этаж. В коридор выходили отдельные комнаты. Медленно, словно бы он подходил к классной доске, чтобы доказать не выученную им теорему, Ипполит Матвеевич приблизился к комнате № 41. На дверях висела на одной кнопке, головой вниз, визитная карточка:
Авессалом Владимирович Изнуренков
В полном затмении, Ипполит Матвеевич забыл постучать, открыл дверь, сделал три лунатических шага и очутился посреди комнаты.
- Простите,- сказал он придушенным голосом,- могу я видеть товарища Изнуренкова?
Авессалом Владимирович нe отвечал. Воробьянинов поднял голову и только теперь увидел, что в комнате никого нет.
По внешнему ее виду никак нельзя было определить наклонностей ее хозяина. Ясно было лишь то, что он холост и прислуги у него нет. На подоконнике лежала бумажка с колбасными шкурками. Тахта у стены была завалена газетами. На маленькой полочке стояло несколько пыльных книг. Со стен глядели цветные фотографии котов, котиков и кошечек. Посредине комнаты, рядом с грязными, повалившимися набок ботинками, стоял ореховый стул. На всех предметах меблировки, а в том числе и на стуле из старгородского особняка болтались малиновые сургучные печати. Но Ипполит Матвеевич не обратил на это внимания. Он сразу же забыл об Уголовном кодексе, о наставлениях Остапа и подскочил к стулу.
В это время газеты на тахте зашевелились. Ипполит Матвеевич испугался. Газеты поползли и свалились на пол. Из-под них вышел спокойный котик. Он равнодушно посмотрел на Ипполита Матвеевича и стал умываться, захватывая лапкой ухо, щечку и ус.
- Фу! - сказал Ипполит Матвеевич.
И потащил стул к двери. Дверь раскрылась сама. На пороге появился хозяин комнаты - блеющий незнакомец. Он был в пальто, из-под которого виднелись лиловые кальсоны. В руке он держал брюки.
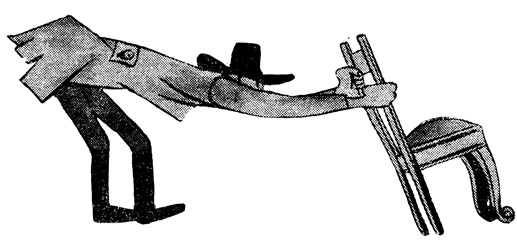
И потащил стул к двери...
Об Авессаломе Владимировиче Изнуренкове можно было сказать, что другого такого человека нет во всей республике. Республика ценила его по заслугам. Он приносил ей большую пользу. И за всем тем он оставался неизвестным, хотя в своем искусстве он был таким же мастером, как Шаляпин - в пении, Горький- в литературе, Капабланка - в шахматах, Мельников - в беге на коньках и самый носатый, самый коричневый ассириец, занимающий лучшее место на углу Тверской и Камергерского,- в чистке сапог желтым кремом.
Шаляпин пел. Горький писал большой роман. Капабланка готовился к матчу с Алехиным. Мельников рвал рекорды. Ассириец доводил штиблеты граждан до солнечного блеска. Авессалом Изнуренков - острил.
Он никогда не острил бесцельно, ради красного словца. Он делал это по заданиям юмористических журналов. На своих плечах он выносил ответственнейшие кампании, снабжал темами для рисунков и фельетонов большинство московских сатирических журналов.
Великие люди острят два раза в жизни. Эти остроты увеличивают их славу и попадают в историю. Изнуренков выпускал не меньше шестидесяти первоклассных острот в месяц, которые с улыбкой повторялись всеми, и все же оставался в неизвестности. Если остротой Изнуренкова подписывался рисунок, то слава доставалась художнику. Имя художника помещали над рисунком. Имени Изнуренкова не было.
- Это ужасно! - кричал он.- Невозможно подписаться. Под чем я подпишусь? Под двумя строчками?
И он продолжал жарко бороться с врагами общества: плохими кооператорами, растратчиками, Чемберленом, бюрократами. Он уязвлял своими остротами подхалимов, управдомов, частников, завов, хулиганов, граждан, не желавших снижать цены, и хозяйственников, отлынивающих от режима экономии.
После выхода журналов в свет остроты произносились с цирковой арены, перепечатывались вечерними газетами без указания источника и преподносились публике с эстрады "авторами-куплетистами".
Изнуренков умудрялся острить в тех областях, где, казалось, уже ничего смешного нельзя было сказать. Из такой чахлой пустыни, как вздутые накидки на себестоимость, Изнуренков умудрялся выжать около сотни шедевров юмора. Гейне опустил бы руки, если бы ему предложили сказать что-нибудь смешное и вместе с тем общественно полезное по поводу неправильной тарификации грузов малой скорости; Марк Твен убежал бы от такой темы. Но Изнуренков оставался на своем посту.
Он бегал по редакционным комнатам, натыкаясь на урны для окурков и блея. Через десять минут тема была обработана, обдуман рисунок и приделан заголовок.
Увидев в своей комнате человека, уносящего опечатанный стул, Авессалом Владимирович взмахнул только что выглаженными у портного брюками, подпрыгнул и заклекотал:
- Вы с ума сошли! Я протестую! Вы не имеете права! Есть же наконец закон! Хотя дуракам он и не писан, но вам" может быть, понаслышке известно, что мебель может стоять еще две недели!.. Я пожалуюсь прокурору!.. Я уплачу наконец!
Ипполит Матвеевич стоял на месте, а Изнуренков сбросил пальто и, не отходя от двери, натянул брюки на свои полные, как у Чичикова, ноги. Изнуренков был толстоват, но лицо имел худое.
Воробьянинов не сомневался, что его сейчас схватят и потащат в милицию. Поэтому он был крайне удивлен, когда хозяин комнаты, справившись со своим туалетом, неожиданно успокоился.
- Поймите же,- заговорил хозяин примирительным тоном,- ведь я не могу на это согласиться.
Ипполит Матвеевич на месте Изнуренкова тоже в конце концов не мог бы согласиться, чтобы у него среди бела дня крали стулья. Но он не знал, что сказать, и поэтому молчал.
- Это не я виноват. Виноват сам Музпред. Да, я сознаюсь. Я не платил за прокатное пианино восемь месяцев, но ведь я его не продал, хотя сделать это имел полную возможность. Я поступил честно, а они по-жульнически. Забрали инструмент, да еще подали в суд и описали мебель. У меня ничего нельзя описать. Эта мебель - орудие производства. И стул - тоже орудие производства!
Ипполит Матвеевич начал кое-что соображать.
- Отпустите стул! - завизжал вдруг Авессалом Владимирович.- Слышите? Вы! Бюрократ!
Ипполит Матвеевич покорно отпустил стул и пролепетал:
- Простите, недоразумение, служба такая.
Тут Изнуренков страшно развеселился. Он забегал по комнате и запел: "А поутру она вновь улыбалась перед окошком своим, как всегда". Он не знал, что делать со своими руками. Они у него летали. Он начал завязывать галстук и, не довязав, бросил. Потом схватил газету и, ничего в ней не прочитав, кинул на пол.
- Так вы не возьмете сегодня мебель?.. Хорошо!.. Ах! Ах!
Ипполит Матвеевич, пользуясь благоприятно сложившимися обстоятельствами, двинулся к двери.
- Подождите! -крикнул вдруг Изнуренков.- Вы когда-нибудь видели такого кота? Скажите, он в самом деле пушист до чрезвычайности?
Котик очутился в дрожащих руках Ипполита Матвеевича.
- Высокий класс!..- бормотал Авессалом Владимирович, не зная, что делать с излишком своей энергии.- Ах!.. Ах!..
Он кинулся к окну, всплеснул руками и стал часто и мелко кланяться двум девушкам, глядевшим на него из окна противоположного дома. Он топтался на месте и расточал томные ахи:
- Девушки из предместий! Лучший плод!.. Высокий класс!.. Ах!.. "А поутру она вновь улыбалась перед окошком своим, как всегда..."
- Так я пойду, гражданин,- глупо сказал директор концессии.
- Подождите, подождите! - заволновался вдруг Изнуренков.- Одну минуточку!.. Ах!.. А котик? Правда, он пушист до чрезвычайности?.. Подождите!.. Я сейчас!..
Он смущенно порылся во всех карманах, убежал, вернулся, ахнул, выглянул из окна, снова убежал и снова вернулся.
- Простите, душечка,- сказал он Воробьянинову, который в продолжение всех этих манипуляций стоял, сложив руки по-солдатски.
С этими словами он дал предводителю полтинник.
- Нет, нет, не отказывайтесь, пожалуйста. Всякий труд должен быть оплачен.
- Премного благодарен,- сказал Ипполит Матвеевич, удивляясь своей изворотливости.
- Спасибо, дорогой, спасибо, душечка!..
Идя по коридору, Ипполит Матвеевич слышал доносившиеся из комнаты Изнуренкова блеяние, визг, пение и страстные крики.
На улице Воробьянинов вспомнил про Остапа и задрожал от страха.
Эрнест Павлович Щукин бродил по пустой квартире, любезно уступленной ему на лето приятелем, и решал вопрос: принять ванну или не принимать.
Трехкомнатная квартира помещалась под самой крышей девятиэтажного дома. В ней, кроме письменного стола и воробьяниновского стула, было только трюмо. Солнце отражалось в зеркале и резало глаза. Инженер прилег на письменный стол, но сейчас же вскочил. Все было раскалено.
"Пойду умоюсь",- решил он.
Он разделся, остыл, посмотрел на себя в зеркало и пошел в ванную комнату. Прохлада охватила его. Он влез в ванну, облил себя водой из голубой эмалированной кружки и щедро намылился. Он весь покрылся хлопьями пены и стал похож на елочного деда.
- Хорошо! - сказал Эрнест Павлович.
Все было хорошо. Стало прохладно. Жены не было. Впереди была полная свобода. Инженер присел и отвернул кран, чтобы смыть мыло. Кран захлебнулся и стал медленно говорить что-то неразборчивое. Вода не шла. Эрнест Павлович засунул скользкий мизинец в отверстие крана. Пролилась тонкая струйка, но больше не было ничего. Эрнест Павлович поморщился, вышел из ванны, поочередно поднимая ноги, и пошел к кухонному крану. Но там тоже ничего не удалось выдоить.
Эрнест Павлович зашлепал в комнаты и остановился перед зеркалом. Пена щипала глаза, спина чесалась, мыльные хлопья падали на паркет. Прислушавшись, не идет ли в ванной вода, Эрнест Павлович решил позвать дворника.
"Пусть хоть он воды принесет,- решил инженер, протирая глаза и медленно закипая,- а то черт знает что такое".
Он выглянул в окно. На самом дне дворовой шахты играли дети.
- Дворник!-закричал Эрнест Павлович.- Дворник!
Никто не отозвался.
Тогда Эрнест Павлович вспомнил, что дворник живет в парадном, под лестницей. Он вступил на холодные плитки и, придерживая дверь рукой, свесился вниз. На площадке была только одна квартира, и Эрнест Павлович не боялся, что его могут увидеть в. странном наряде из мыльных хлопьев.
- Дворник! - крикнул он вниз.
Слово грянуло и с шумом покатилось по ступенькам.
- Гу-гу!-ответила лестница.
- Дворник! Дворник!
- Гум-гум! Гум-гум!
Тут нетерпеливо перебиравший босыми ногами инженер поскользнулся и, чтобы сохранить равновесие, выпустил из руки дверь. Дверь прищелкнула медным язычком американского замка и затворилась. Стена задрожала. Эрнест Павлович, не поняв еще непоправимости случившегося, потянул дверную ручку. Дверь не подалась.
Инженер ошеломленно подергал ее еще несколько раз и прислушался с бьющимся сердцем. Была сумеречная церковная тишина. Сквозь разноцветные стекла высоченного окна еле пробивался свет.
"Положение",- подумал Эрнест Павлович.
- Вот сволочь! - сказал он двери.
Внизу, как петарды, стали ухать и взрываться человеческие голоса. Потом, как громкоговоритель, залаяла комнатная собачка.
По лестнице толкали вверх детскую колясочку.
Эрнест Павлович трусливо заходил по площадке.
- С ума можно сойти! Ему показалось, что все это слишком дико, чтобы могло случиться на самом деле. Он снова подошел к двери и прислушался. Он услышал какие-то новые звуки. Сначала ему показалось, что в квартире кто-то ходит.
"Может быть, кто-нибудь пришел с черного хода?" - подумал он, хотя знал, что дверь черного хода закрыта и в квартиру никто не может войти.
Однообразный шум продолжался. Инженер задержал дыхание. Тогда он разобрал, что шум этот производит плещущая вода. Она, очевидно, бежала изо всех кранов квартиры. Эрнест Павлович чуть не заревел.
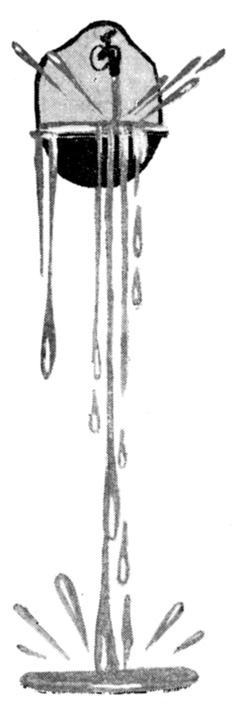
Плещущаяся вода
Положение было ужасное. В Москве, в центре города, на площадке девятого этажа стоял взрослый усатый человек с высшим образованием, абсолютно голый и покрытый шевелящейся еще мыльной пеной. Идти ему было некуда. Он скорее согласился бы сесть в тюрьму, чем показаться в таком виде. Оставалось одно - пропадать. Пена лопалась и жгла спину. На руках и на лице она уже застыла, стала похожа на паршу и стягивала кожу, как бритвенный камень.
Так прошло полчаса. Инженер терся об известковые стены, стонал и несколько раз безуспешно пытался выломать дверь. Он стал грязным и страшным.
Щукин решил спуститься вниз, к дворнику, чего бы это ему ни стоило.
"Нету другого выхода, нету. Только спрятаться у дворника!"
Задыхаясь и прикрывшись рукой так, как это делают мужчины, входя в воду, Эрнест Павлович медленно стал красться вдоль перил. Он очутился на площадке между восьмым и девятым этажами.
Его фигура осветилась разноцветными ромбами и квадратами окна. Он стал похож на арлекина, подслушивающего разговор Коломбины с Паяцем. Он уже повернул в новый пролет лестницы, как вдруг дверной замок нижней квартиры выпалил и из квартиры вышла барышня с балетным чемоданчиком. Не успела барышня сделать шагу, как Эрнест Павлович очутился уже на своей площадке. Он почти оглох от страшных ударов сердца.
Только через полчаса инженер оправился и смог предпринять новую вылазку. На этот раз он твердо решил стремительно кинуться вниз и, не обращая внимания ни на что, добежать до заветной дворницкой.
Так он и сделал. Неслышно прыгая через четыре ступеньки и подвывая, член бюро секции инженеров и техников поскакал вниз. На площадке шестого этажа он на секунду остановился. Это его погубило. Снизу кто-то поднимался.
- Несносный мальчишка! - послышался женский голос, многократно усиленный лестничным репродуктором.- Сколько раз я ему говорила!..
Эрнест Павлович, повинуясь уже не разуму, а инстинкту, как преследуемый собаками кот, взлетел на девятый этаж.
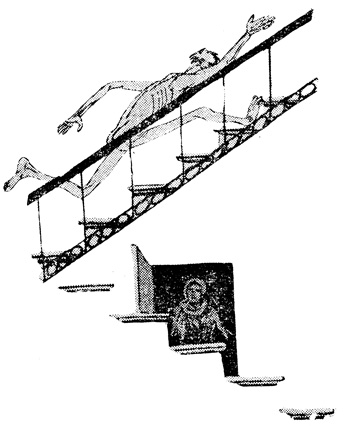
Взлетел на девятый этаж
Очутившись на своей, загаженной мокрыми следами, площадке, он беззвучно заплакал, дергая себя за волосы и конвульсивно раскачиваясь. Кипящие слезы врезались в мыльную корку и прожгли в ней две волнистые борозды.
- Господи! - сказал инженер.- Боже мой! Боже мой!
Жизни не было. А между тем он явственно услышал шум пробежавшего по улице грузовика. Значит, где-то жили!
Он еще несколько раз побуждал себя спуститься вниз, но не смог - нервы сдали. Он попал в склеп.
- Наследили за собой, как свиньи! - услышал он старушечий голос с нижней площадки.
Инженер подбежал к стене и несколько раз боднул ее головой. Самым разумным было бы, конечно, кричать до тех пор, пока кто-нибудь не придет, и потом сдаться пришедшему в плен. Но Эрнест Павлович совершенно потерял способность соображать и, тяжело дыша, вертелся на площадке. Выхода не было.
Глава XXIV. Клуб автомобилистов
В редакции большой ежедневной газеты "Станок", помещавшейся на втором этаже Дома народов, спешно пекли материал к сдаче в набор.
Выбирались из загона (материал, набранный, но не вошедший в прошлый номер) заметки и статьи, подсчитывалось число занимаемых ими строк, и начиналась ежедневная торговля из-за места.
Всего газета на своих четырех страницах (полосах) могла вместить четыре тысячи четыреста строк. Сюда должно было войти все: телеграммы, статьи, хроника, письма рабкоров, объявления, один стихотворный фельетон и два в прозе, карикатуры, фотографии, специальные отделы: театр, спорт, шахматы, передовая и подпередовая, извещения советских, партийных и профессиональных организаций, печатающийся с продолжением роман, художественные очерки столичной жизни, мелочи под названием "Крупинки", научно-популярные статьи, радио и различный случайный материал. Всего по отделам набиралось материалу тысяч на десять строк. Поэтому распределение места на полосах обычно сопровождалось драматическими сценами.
Первым к секретарю редакции прибежал заведующий шахматным отделом маэстро Судейкин. Он задал вежливый, но полный горечи вопрос:
- Как? Сегодня не будет шахмат?
- Не вмещаются,- ответил секретарь.- Подвал большой. Триста строк.
- Но ведь сегодня же суббота. Читатель ждет воскресного отдела. У меня ответы на задачи, у меня прелестный этюд Неунывако, у меня, наконец...
- Хорошо. Сколько вы хотите?
- Не меньше ста пятидесяти.
- Хорошо. Раз есть ответы на задачи, дадим шестьдесят строк.
Маэстро пытался было вымолить еще строк тридцать, хотя бы на этюд Неунывако (замечательная индийская партия Тартаковер - Боголюбов лежала у него уже больше месяца), но его оттеснили. Пришел репортер Персицкий.
- Нужно давать впечатления с пленума? - спросил он очень тихо.
- Конечно! - закричал секретарь.- Ведь позавчера говорили.
- Пленум есть, - сказал Персицкий еще тише,- и две зарисовки, но они не дают мне места.
- Как не дают? С кем вы говорили? Что они, посходили с ума?
Секретарь побежал ругаться. За ним, интригуя на ходу, следовал Персицкий, а еще позади бежал сотрудник из отдела объявлений.
- У нас секаровская жидкость! - кричал он грустным голосом.
За ними плелся завхоз, таща с собой купленный для редактора на аукционе мягкий стул.
- Жидкость во вторник. Сегодня публикуем наши приложения!
- Много вы будете иметь с ваших бесплатных объявлений, а за жидкость уже получены деньги.
- Хорошо, в ночной редакции выясним. Сдайте объявление Паше. Она сейчас как раз едет в ночную.
Секретарь сел читать передовую. Его сейчас же оторвали от этого увлекательного занятия. Пришел художник.
- Ага,- сказал секретарь,- очень хорошо. Есть тема для карикатуры, в связи с последними телеграммами из Германии.
- Я думаю так,- проговорил художник: - Стальной Шлем и общее положение Германии...
- Хорошо. Так вы как-нибудь скомбинируйте, а потом мне покажите.
Художник пошел в свой отдел. Он взял квадратик ватманской бумаги и набросал карандашом худого пса. На псиную голову он надел германскую каску с пикой. А затем принялся делать надписи. На туловище животного он написал печатными буквами слово "Германия", на витом хвосте - "Данцигский коридор", на челюсти - "Мечты о реванше", на ошейнике - "План Дауэса" и на высунутом языке - "Штреземан". Перед собакой художник поставил Пуанкаре, державшего в руке кусок мяса. На мясе художник тоже замыслил сделать надпись, но кусок был мал, и надпись не помещалась. Человек, менее сообразительный, чем газетный карикатурист, растерялся бы, но художник, не задумываясь, пририсовал к мясу подобие привязанного к шейке бутылки рецепта и уже на нем написал крохотными буквами: "Французские предложения о гарантиях безопасности". Чтобы Пуанкаре не смешали с каким-либо другим государственным деятелем, художник на животе его написал: "Пуанкаре". Набросок был готов.
На столах художественного отдела лежали иностранные журналы, большие ножницы, баночки с тушью и белилами. На полу валялись обрезки фотографий: чье-то плечо, чьи-то ноги и кусочки пейзажа.
Человек пять художников скребли фотографии бритвенными ножичками "Жиллет", подсветляя их; придавали снимкам резкость, подкрашивая их тушью и белилами, и ставили на обороте подпись и размер: 33/4 квадрата, 2 колонки и так далее - указания, потребные для цинкографии.
В комнате редактора сидела иностранная делегация. Редакционный переводчик смотрел в лицо говорящего иностранца и, обращаясь к редактору, говорил:
- Товарищ Арно желает узнать...
Шел разговор о структуре советской газеты. Пока переводчик объяснял редактору, что желал бы узнать товарищ Арно, сам Арно, в бархатных велосипедных брюках, и все остальные иностранцы с любопытством смотрели на красную ручку с пером № 86, которая была прислонена к углу комнаты. Перо почти касалось потолка, а ручка в своей широкой части была толщиною в туловище среднего человека. Этой ручкой можно было бы писать: перо было самое настоящее, хотя превосходило по величине большую щуку.
- Ого-го! - смеялись иностранцы. - Колоссаль! Это перо было поднесено редакции съездом рабкоров.
Редактор, сидя на воробьяниновском стуле, улыбался и, быстро кивая головой то на ручку, то на гостей, весело объяснял.
Крик в секретариате продолжался. Персицкий принес статью Семашко, и секретарь срочно вычеркивал из макета третьей полосы шахматный отдел. Маэстро Судейкин уже не боролся за прелестный этюд Неунывако. Он тщился сохранить хотя бы решения задач. После борьбы, более напряженной, чем борьба его с Ласкером на сен-себастианском турнире, маэстро отвоевал себе местечко за счет "Суда быта".

Персицкий принес статью Семашко
Семашко послали в набор. Секретарь снова углубился в передовую. Прочесть ее секретарь решил во что бы то ни стало, из чисто спортивного интереса.
Когда он дошел до места: "...Однако содержание последнего пакта таково, что если Лига наций зарегистрирует его, то придется признать, что...", к нему подошел "Суд и быт", волосатый мужчина. Секретарь продолжал читать, нарочно не глядя в сторону "Суда и быта" и делая в передовой ненужные пометки.
"Суд и быт" зашел с другой стороны и сказал обидчиво:
- Я не понимаю.
- Ну-ну,- забормотал секретарь, стараясь оттянуть время,- в чем дело?
- Дело в том, что в среду "Суда и быта" не было, в пятницу "Суда и быта" не было, в четверг поместили из загона только алиментное дело, а в субботу снимают процесс, о котором давно пишут во всех газетах, и только мы...
- Где пишут? - закричал секретарь.- Я не читал.
- Завтра всюду появится, а мы опять опоздаем.
- А когда вам поручили чубаровское дело, вы что писали? Строки от вас нельзя было получить. Я знаю. Вы писали о чубаровцах в вечорку.
- Откуда вы это знаете?
- Знаю. Мне говорили.
- В таком случае я знаю, кто вам говорил. Вам говорил Персицкий, тот Персицкий, который на глазах у всей Москвы пользуется аппаратом редакции, чтобы давать материал в Ленинград.
- Паша! - сказал секретарь тихо.- Позовите Персицкого.
"Суд и быт" индифферентно сидел на подоконнике. Позади него виднелся сад, в котором возились птицы и городошники. Тяжбу разбирали долго. Секретарь прекратил ее ловким приемом: выкинул шахматы и вместо них поставил "Суд и быт". Персицкому было сделано предупреждение.
Наступило самое горячее редакционное время - пять часов.
Над разогревшимися пишущими машинками курился дымок. Сотрудники диктовали противными от спешки голосами. Старшая машинистка кричала на негодяев, незаметно подкидывавших свои материалы вне очереди.
По коридору ходил редакционный поэт. Он ухаживал за машинисткой, скромные бедра которой развязывали его поэтические чувства. Он уводил ее в конец коридора и у окна говорил слова любви, на которые девушка отвечала:
- У меня сегодня сверхурочная работа, и я очень занята.
Это значило, что она любит другого. Поэт путался под ногами и ко всем знакомым обращался с поразительно однообразной просьбой:
- Дайте десять копеек на трамвай!
За этой суммой он забрел в отдел рабкоров. Потолкавшись среди столов, за которыми работали "читчики", и потрогав руками кипы корреспонденции, поэт возобновил свои попытки. Читчики, самые суровые в редакции люди (их сделала такими необходимость прочитывать в день по сто писем, вычерченных руками, знакомыми больше с топором, малярной кистью или тачкой, нежели с письмом), молчали.
Поэт побывал в экспедиции и в конце концов перекочевал в контору. Но там он не только не получил десяти копеек, а даже подвергся нападению со стороны комсомольца Авдотьева: поэту было предложено вступить в кружок автомобилистов. Влюбленную душу поэта заволокло парами бензина. Он сделал два шага в сторону и, взяв третью скорость, скрылся с глаз.
Авдотьев нисколько не был обескуражен. Он верил в торжество автомобильной идеи. В секретариате он повел борьбу тихой сапой. Это и помешало секретарю докончить чтение передовой статьи.
- Слушай, Александр Иосифович. Ты подожди, дело серьезное,- сказал Авдотьев, садясь на секретарский стол.- У нас образовался автомобильный клуб. Редакция не даст нам взаймы рублей пятьсот на восемь месяцев?
- Можешь не сомневаться.
- Что? Ты думаешь - мертвое дело?
- Не думаю, а знаю. Сколько же у вас в кружке членов?
- Уже очень много.
Кружок пока что состоял только из одного организатора, но Авдотьев об этом не распространялся.
- За пятьсот рублей мы покупаем на "кладбище" машину. Егоров уже высмотрел. Ремонт, он говорит, будет стоить не больше пятисот. Всего тысяча. Вот я и думаю набрать двадцать человек, по полсотни на каждого. Зато будет замечательно. Научимся управлять машиной. Егоров будет шефом. И через три месяца - к августу - мы все умеем управлять, есть машина, и каждый по очереди едет, куда ему угодно.
- А пятьсот рублей на покупку?
- Даст касса взаимопомощи под проценты. Выплатим. Так что ж, записывать тебя?
Но секретарь был уже лысоват, много работал, находился во власти семьи и квартиры, любил полежать после обеда на диване и почитать перед сном "Правду". Он подумал и отказался.
- Ты,- сказал Авдотьев,- старик!
Авдотьев подходил к каждому столу и повторял свои зажигательные речи. В стариках, которыми он считал всех сотрудников старше двадцати лет, его слова вызывали сомнительный эффект. Они кисло отбрехивались, напирая на то, что они уже друзья детей и регулярно платят по двадцати копеек в год на благое дело помощи бедным крошкам. Они, собственно говоря, согласились бы вступить в новый клуб, но...
- Что "но"? - кричал Авдотьев.- Вот если бы автомобиль был сегодня? Да? Если бы вам положить на стол синий шестицилиндровый "паккард" за пятнадцать копеек в год, а бензин и смазочные материалы за счет правительства?!
- Иди, иди! - говорили старички.- Сейчас последний посыл, мешаешь работать!
Автомобильная идея гасла и начинала чадить. Наконец нашелся пионер нового предприятия. Персицкий с грохотом отскочил от телефона, выслушал Авдотьева и сказал:
- Ты не так подходишь, дай лист. Начнем сначала.
И Персицкий вместе с Авдотьевым начали новый обход.
- Ты, старый матрац,- говорил Персицкий голубоглазому юноше,- на это даже денег не нужно давать. У тебя есть заем двадцать седьмого года? На сколько? На пятьдесят? Тем лучше. Ты даешь эти облигации в наш клуб. Из облигаций составляется капитал. К августу мы сможем реализовать все облигации и купить автомобиль.
- А если моя облигация выиграет? - защищался юноша.
- А сколько ты хочешь выиграть?
- Пятьдесят тысяч.
- На эти пятьдесят тысяч будут куплены автомобили. И если я выиграю - тоже. И если Авдотьев - тоже. Словом, чья бы облигация ни выиграла, деньги идут на машины. Теперь ты понял? Чудак! На собственной машине поедешь по Военно-Грузинской дороге! Горы! Дурак!.. А позади тебя на собственных машинах "Суд и быт" катит, хроника, отдел происшествий и эта дамочка,, знаешь, которая дает кино... Ну? Ну? Ухаживать будешь!..
Каждый держатель облигации в глубине души не верит в возможность выигрыша. Зато он очень ревниво относится к облигациям своих соседей и знакомых. Он пуще огня боится того, что выиграют они, а он, всегдашний неудачник, снова останется на бобах. Поэтому надежды на выигрыш соседа по редакции неотвратимо толкали держателей облигаций в лоно нового клуба. Смущало только опасение, что ни одна облигация не выиграет. Но это почему-то казалось маловероятным, и, кроме того, автомобильный клуб ничего не терял: одна машина с "кладбища" была гарантирована на составленный из облигаций капитал.
Двадцать человек набралось за пять минут. Когда дело было увенчано, пришел секретарь, прослышавший о заманчивых перспективах автомобильного клуба.
- А что, ребятки,- сказал он,- не записаться ли также и мне?
- Запишись, старик, отчего же,- ответил Авдотьев,- только не к нам. У нас уже, к сожалению, полный комплект, и прием новых членов прекращен до тысяча девятьсот двадцать девятого года. А запишись ты лучше в друзья детей. Дешево и спокойно. Двадцать копеек в год, и ехать никуда не нужно.
Секретарь помялся, вспомнил, что он и впрямь уже староват, вздохнул и пошел дочитывать увлекательную передовую.
- Скажите, товарищ,- остановил его в коридоре красавец с черкесским лицом,- где здесь редакция газеты "Станок"?
Это был великий комбинатор.
Глава XXV. Разговор с голым инженером
Появлению Остапа Бендера в редакции предшествовал ряд немаловажных событий.
Не застав Эрнеста Павловича днем (квартира была заперта, и хозяин, вероятно, был на службе), великий комбинатор решил зайти к нему попозже, а пока что расхаживал по городу. Томясь жаждой деятельности, он переходил улицы, останавливался на площадях, делал глазки милиционеру, подсаживал дам в автобусы и вообще имел такой вид, будто бы вся Москва с ее памятниками, трамваями, моссельпромщицами, церковками, вокзалами и афишными тумбами собралась к нему на раут. Он ходил среди гостей, мило беседовал с ними и для каждого находил теплое словечко. Прием такого огромного количества посетителей несколько утомил великого комбинатора. К тому же был уже шестой час, и надо было отправляться к инженеру Щукину.
Но судьба судила так, что, прежде чем свидеться с Эрнестом Павловичем, Остапу пришлось задержаться часа на два для подписания небольшого протокола.
На Театральной площади великий комбинатор попал под лошадь. Совершенно неожиданно на него налетело робкое животное белого цвета и толкнуло его костистой грудью. Бендер упал, обливаясь потом. Было очень жарко. Белая лошадь громко просила извинения. Остап живо поднялся. Его могучее тело не получило никакого повреждения. Тем больше было причин и возможностей для скандала.
Гостеприимного и любезного хозяина Москвы нельзя было узнать. Он вразвалку подошел к смущенному старику извозчику и треснул его кулаком по ватной спине. Старичок терпеливо перенес наказание. Прибежал милиционер.
- Требую протокола! - с пафосом закричал Остап.
В его голосе послышались металлические нотки человека, оскорбленного в самых святых своих чувствах. И, стоя у стены Малого театра, на том самом месте, где впоследствии был сооружен памятник великому русскому драматургу Островскому, Остап подписал протокол и дал небольшое интервью набежавшему Персицкому. Персицкий не брезговал черной работой. Он аккуратно записал в блокнот фамилию и имя потерпевшего и помчался далее.
Остап горделиво двинулся в путь. Все еще переживая нападение белой лошади и чувствуя запоздалое сожаление, что не успел дать извозчику и по шее, Остап, шагая через две ступеньки, поднялся до седьмого этажа щукинского дома. Здесь на голову ему упала тяжелая капля. Он посмотрел вверх. Прямо в глаза ему хлынул с верхней площадки небольшой водопадик грязной воды.
"За такие штуки надо морду бить",- решил Остап.
Он бросился наверх. У двери щукинской квартиры, спиной к нему, сидел голый человек, покрытый белыми лишаями. Он сидел прямо на кафельных плитках, держась за голову и раскачиваясь.
Вокруг голого была вода, вылившаяся в щель квартирной двери.
- О-о-о,- стонал голый,- о-о-о...
- Скажите, это вы здесь льете воду?-спросил Остап раздраженно.- Что это за место для купанья? Вы с ума сошли!
Голый посмотрел на Остапа и всхлипнул.
- Слушайте, гражданин, вместо того чтобы плакать, вы, может быть, пошли бы в баню? Посмотрите, на что вы похожи! Прямо какой-то пикадор!
- Ключ,- замычал инженер.
- Что ключ? - спросил Остап.
- От кв-в-варти-ыры.
- Где деньги лежат?
Голый человек икал с поразительной быстротой.
Ничто не могло смутить Остапа. Он начинал соображать. И когда наконец сообразил, чуть не свалился за перила от хохота, бороться с которым было бы все равно бесполезно.
- Так вы не можете войти в квартиру? Но это же так просто!
Стараясь не запачкаться о голого, Остап подошел к двери, сунул в щель американского замка длинный желтый ноготь большого пальца и осторожно стал поворачивать его справа налево и сверху вниз.
Дверь бесшумно отворилась, и голый с радостным воем вбежал в затопленную квартиру.
Шумели краны. Вода в столовой образовала водоворот. В спальне она стояла спокойны прудом, по которому тихо, лебединым ходом, плыли ночные туфли? Сонной рыбьей стайкой сбились в угол окурки.
Воробьяниновский стул стоял в столовой, где было наиболее сильное течение воды. Белые бурунчики образовались у всех его четырех ножек. Стул слегка подрагивал и, казалось, собирался немедленно уплыть от своего преследователя. Остап сел на него и поджал ноги. Пришедший в себя Эрнест Павлович, с криками "пардон! пардон!", закрыл краны, умылся и предстал перед Бендером голый до пояса и в закатанных до колен мокрых брюках.
- Вы меня просто спасли! - возбужденно кричал он.- Извините, не могу подать вам руки, я весь мокрый. Вы знаете, я чуть с ума не сошел.
- К тому, видно, и шло.
- Я очутился в ужасном положении.
И Эрнест Павлович, переживая вновь страшное происшествие, то омрачаясь, то нервно смеясь, рассказал великому комбинатору подробности постигшего его несчастья.
- Если бы не вы, я бы погиб,- закончил инженер.
- Да,- сказал Остап,- со мной тоже был такой случай. Даже похуже немного.
Инженера настолько сейчас интересовало все, что касалось подобных историй, что он даже бросил ведро, которым собирал воду, и стал напряженно слушать.
- Совсем так, как с вами,- начал Бендер,- только было это зимой, и не в Москве, а в Миргороде, в один из веселеньких промежутков между Махно и Тютюником в девятнадцатом году. Жил. я в семействе одном. Хохлы отчаянные! Типичные собственники: одноэтажный домик и много разного барахла. Надо вам заметить, что насчет канализации и прочих удобств в Миргороде есть только выгребные ямы. Ну, и выскочил я однажды ночью в одном белье прямо на снег: простуды я не боялся - дело минутное. Выскочил и машинально захлопнул за собой дверь. Мороз - градусов двадцать. Я стучу - не открывают. На месте нельзя стоять: замерзнешь! Стучу и бегаю, стучу и бегаю - не открывают. И, главное, в доме ни одна сатана не спит. Ночь страшная. Собаки воют. Стреляют где-то. А я бегаю по сугробам в летних кальсонах. Целый час стучал. Чуть не подох. И почему, вы думаете, они не открывали? Имущество прятали, зашивали керенки в подушку. Думали, что с обыском. Я их чуть не поубивал потом.
Инженеру все это было очень близко.
- Да,- сказал Остап,- так это вы инженер Щукин?
- Я. Только уж вы, пожалуйста, никому не говорите. Неудобно, право.
- О, пожалуйста! Антр-ну, тет-а-тет. В четыре глаза, как говорят французы. А я к вам по делу, товарищ Щукин.
- Чрезвычайно буду рад вам служить.
- Гран мерси. Дело пустяковое. Ваша супруга просила меня к вам зайти и взять у вас этот стул. Она говорила, что он ей нужен для пары. А вам она собирается прислать кресло.
- Да пожалуйста! - воскликнул Эрнест Павлович. - Я очень рад. И зачем вам утруждать себя? Я могу сам принести. Сегодня же.
- Нет, зачем же! Для меня это -сущие пустяки. Живу я недалеко, для меня это нетрудно.
Инженер засуетился и проводил великого комбинатора до самой двери, переступить которую он страшился, хотя ключ был уже предусмотрительно положен в карман мокрых штанов.
Бывшему студенту Иванопуло был подарен еще один стул. Обшивка его была, правда, немного повреждена, но все же это был прекрасный стул и к тому же точь-в-точь, как первый.
Остапа не тревожила неудача с этим стулом, четвертым по счету. Он знал все штучки судьбы.
В стройную систему его умозаключений темной громадой врезывался только стул, уплывший в глубину товарного двора Октябрьского вокзала. Мысли об этом стуле были неприятны и навевали тягостное сомнение.
Великий комбинатор находился в положении рулеточного игрока, ставящего исключительно на номера, одного из той породы людей, которые желают выиграть сразу в тридцать шесть раз больше своей ставки. Положение было даже хуже: концессионеры играли в такую рулетку, где зеро приходилось на одиннадцать номеров из двенадцати. Да и самый двенадцатый номер вышел из поля зрения, находился черт знает где и, возможно, хранил в себе чудесный выигрыш.
Цепь этих горестных размышлений была прервана приходом главного директора. Уже один его вид возбудил в Остапе нехорошие чувства.
- Ого! - сказал технический руководитель.- Я вижу, что вы делаете успехи. Только не шутите со мной. Зачем вы оставили стул за дверью? Чтобы позабавиться надо мной?
- Товарищ Бендер,- пробормотал предводитель.
- Ах, зачем вы играете на моих нервах! Несите его сюда скорее, несите! Вы видите, что новый стул, на котором я сижу, увеличил ценность вашего приобретения во много раз.
Остап склонил голову набок и сощурил глаза.
- Не мучьте дитю,- забасил он наконец, - где стул? Почему вы его не принесли?
Сбивчивый доклад Ипполита Матвеевича прерывался криками с места, ироническими аплодисментами и каверзными вопросами. Воробьянинов закончил свой доклад под единодушный смех аудитории.
- А мои инструкции? - спросил Остап грозно.- Сколько раз я вам говорил, что красть грешно! Еще тогда, когда вы в Старгороде хотели обокрасть мою жену, мадам Грицацуеву, еще тогда я понял, что у вас мелкоуголовный характер. Самое большое, к чему смогут привести вас эти способности,- это шесть месяцев без строгой изоляции. Для гиганта мысли и отца русской демократии масштаб как будто небольшой, и вот результаты. Стул, который был у вас в руках, выскользнул. Мало того, вы испортили легкое место! Попробуйте нанести туда второй визит. Вам этот Авессалом голову оторвет. Счастье ваше, что вам помог идиотский случай, не то сидели бы вы за решеткой и напрасно ждали бы от меня передачи. Я вам передачу носить не буду, имейте это в виду. Что мне Гекуба? Вы мне в конце кондов не мать, не сестра и не любовница.
Ипполит Матвеевич, сознававший все свое ничтожество, стоял понурясь.
- Вот что, дорогуша, я вижу полную бесцельность нашей совместной работы. Во всяком случае, работать с таким малокультурным компаньоном, как вы, из сорока процентов представляется мне абсурдным. Воленс-неволенс, но я должен поставить новые условия.
Ипполит Матвеевич задышал. До этих пор он старался не дышать.
- Да, мой старый друг, вы больны организационным бессилием и бледной немочью. Соответственно этому уменьшаются ваши паи. Честно, хотите - двадцать процентов?
Ипполит Матвеевич решительно замотал головой.
- Почему же вы не хотите? Вам мало?
- М-мало.
- Но ведь это же тридцать тысяч рублей! Сколько же вы хотите?
- Согласен на сорок.
- Грабеж среди бела дня! - сказал Остап, подражая интонациям предводителя во время исторического торга в дворницкой.- Вам мало тридцати тысяч? Вам нужен еще ключ от квартиры?!
- Это вам нужен ключ от квартиры,- пролепетал Ипполит Матвеевич.
- Берите двадцать, пока не поздно, а то я могу раздумать. Пользуйтесь тем, что у меня хорошее настроение.
Воробьянинов давно уже потерял тот самодовольный вид, с которым некогда начинал поиски брильянтов.
Лед, который тронулся еще в дворницкой, лед, гремевший, трескавшийся и ударявшийся о гранит набережной, давно уже измельчал и стаял. Льда уже не было. Была широко разлившаяся вода, которая небрежно несла на себе Ипполита Матвеевича, швыряя его из стороны в сторону, то ударяя его о бревно, то сталкивая его со стульями, то унося от этих стульев. Невыразимую боязнь чувствовал Ипполит Матвеевич. Все пугало его. По реке плыли мусор, нефтяные остатки, пробитые курятники, дохлая рыба, чья-то ужасная шляпа. Может быть, это была шляпа отца Федора, утиный картузик, сорванный с него ветром в Ростове? Кто знает! Конца пути не было видно. К берегу не прибивало, а плыть против течения бывший предводитель дворянства не имел ни сил, ни желания.
Его несло в открытое море приключений.
Глава XXVI. Два визита
Подобно распеленутому малютке, который, не останавливаясь ни на секунду, разжимает и сжимает восковые кулачки, двигает ножонками, вертит головой, величиной в крупное антоновское яблоко, одетое в чепчик, и выдувает изо рта пузыри, Авессалом Изнуренков находился в состоянии вечного беспокойства. Он двигал полными ножками, вертел выбритым подбородочком, издавал ахи и производил волосатыми руками такие жесты, будто делал гимнастику на резинках.
Ом вел очень хлопотливую жизнь, всюду появлялся и что-то предлагал, несясь по улице, как испуганная курица, быстро говорил вслух, словно высчитывал страховку каменного, крытого железом строения. Сущность его жизни и деятельности заключалась в том, что он органически не мог заняться каким-нибудь делом, предметом или мыслью больше чем на минуту.
Если острота не нравилась и не вызывала мгновенного смеха, Изнуренков не убеждал редактора, как другие, что острота хороша и требует для полной оценки лишь небольшого размышления, он сейчас же предлагал новую остроту.
- Что плохо, то плохо,- говорил он,- кончено.
В магазинах Авессалом Владимирович производил такой сумбур, так быстро появлялся и исчезал на глазах пораженных приказчиков, так экспансивно покупал коробку шоколада, что кассирша ожидала получить с него по крайней мере рублей тридцать. Но Изнуренков, пританцовывая у кассы и хватаясь за галстук, как будто его душили, бросал на стеклянную дощечку измятую трехрублевку и, благодарно блея, убегал.
Если бы этот человек мог остановить себя хоть бы на два часа, произошли бы самые неожиданные события.
Может быть, Изнуренков присел бы к столу и написал прекрасную повесть, а может быть, и заявление в кассу взаимопомощи о выдаче безвозвратной ссуды, или новый пункт к закону о пользовании жилплощадью, или книгу "Уменье хорошо одеваться и вести себя в обществе".
Но сделать этого он не мог. Бешено работающие ноги уносили его, из двигающихся рук карандаш вылетал, как стрела, мысли прыгали.
Изнуренков бегал по комнате, и печати на мебели тряслись, как серьги у танцующей цыганки. На стуле сидела смешливая девушка из предместья.
- Ах, ах,- вскрикивал Авессалом Владимирович,- божественно! "Царица голосом и взором свой пышный оживляет пир..." Ах, ах! Высокий класс!.. Вы - королева Марго.
Ничего этого не понимавшая королева из предместья с уважением смеялась.
- Ну, ешьте шоколад, ну, я вас прошу!.. Ах, ах!.. Очаровательно!
Он поминутно целовал королеве руки, восторгался ее скромным туалетом, совал ей кота и заискивающе спрашивал:
- Правда, он похож на попугая? Лев! Лев! Настоящий лев! Скажите, он действительно пушист до чрезвычайности?.. А хвост! Хвост! Скажите, это действительно большой хвост? Ах!
Потом кот полетел в угол, и Авессалом Владимирович, прижав руки к пухлой молочной груди, стал с кем-то раскланиваться в окошко. Вдруг в его бедовой голове щелкнул какой-то клапан, и он начал вызывающе острить по поводу физических и душевных качеств своей гостьи:
- Скажите, а эта брошка действительно из стекла? Ах! Ах! Какой блеск!.. Вы меня ослепили, честное слово!.. А скажите, Париж действительно большой город? Там действительно Эйфелева башня?.. Ах! Ах!.. Какие руки!.. Какой нос!.. Ах!
Он не обнимал девушку. Ему было достаточно говорить ей комплименты. И он говорил без умолку. Поток их был прерван неожиданным появлением Остапа.
Великий комбинатор вертел в руках клочок бумаги и сурово допрашивал:
- Изнуренков здесь живет? Это вы и есть?
Авессалом Владимирович тревожно вглядывался в каменное лицо посетителя. В его глазах он старался прочесть, какие именно претензии будут сейчас предъявлены: штраф ли это за разбитое при разговоре в трамвае стекло, повестка ли в нарсуд за неплатеж квартирных денег, или прием подписки на журнал для слепых.
- Что же это, товарищ,- жестко сказал Бендер,- это совсем не дело - прогонять казенного курьера.
- Какого курьера? - ужаснулся Изнуренков.
- Сами знаете какого. Сейчас мебель буду вывозить. Попрошу вас, гражданка, очистить стул,- строго проговорил Остап.
Гражданка, над которой только что читали стихи самых лирических поэтов, поднялась с места.
- Нет! Сидите! - закричал Изнуренков, закрывая стул своим телом.- Они не имеют права.
- Насчет прав молчали бы, гражданин. Сознательным надо быть. Освободите мебель! Закон надо соблюдать!
С этими словами Остап схватил стул и потряс им в воздухе.
- Вывожу мебель! - решительно заявил Бендер.
- Нет, не вывозите!
- Как же не вывожу,- усмехнулся Остап, выходя со стулом в коридор,- когда именно вывожу.
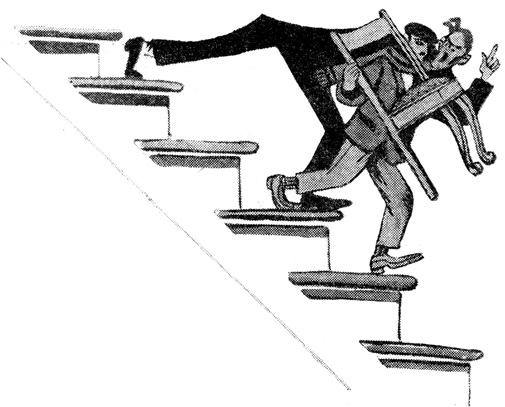
- Вывожу мебель! - решительно заявил Бендер
Авессалом поцеловал у королевы руку и, наклонив голову, побежал за строгим судьей. Тот уже спускался по лестнице.
- А я вам говорю, что не имеете права. По закону мебель может стоять две недели, а она стояла только три дня! Может быть, я уплачу!
Изнуренков вился вокруг Остапа, как пчела. Таким манером оба очутились на улице. Авессалом Владимирович бежал за стулом до самого угла. Здесь он увидел воробьев, прыгавших вокруг навозной кучи. Он посмотрел на них просветленными глазами, забормотал, всплеснул руками и, заливаясь смехом, произнес:
- Высокий класс! Ах! Ах!.. Какой поворот темы!
Увлеченный разработкой темы, Изнуренков весело повернул назад и подскакивая, побежал домой. О стуле он вспомнил только дома, застав девушку из предместья стоящей посреди комнаты.
Остап отвез стул на извозчике.
- Учитесь,- сказал он Ипполиту Матвеевичу,- стул взят голыми руками. Даром. Вы понимаете?
После вскрытия стула Ипполит Матвеевич загрустил.
- Шансы все увеличиваются,- сказал Остап,- а денег ни копейки. Скажите, а покойная ваша теща не любила шутить?
- А что такое?
- Может быть, никаких брильянтов нет? Ипполит Матвеевич так замахал руками, что на нем поднялся пиджачок.
- В таком случае все прекрасно. Будем надеяться, что достояние Иванопуло увеличится еще только на один стул.
- О вас, товарищ Бендер, сегодня в газетах писали,- заискивающе сказал Ипполит Матвеевич.
Остап нахмурился.
Он не любил, когда пресса поднимала вой вокруг его имени.
- Что вы мелете? В какой газете?
Ипполит Матвеевич с торжеством развернул "Станок".
- Вот здесь. В отделе "Что случилось за день".
Остап несколько успокоился, потому что боялся заметок только в разоблачительных отделах: "Наши шпильки" и "Злоупотребителей - под суд".
Действительно, в отделе "Что случилось за день" нонпарелью было напечатано:
ПОПАЛ ПОД ЛОШАДЬ
Вчера на площади Свердлова попал под
лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер.
Пострадавший отделался легким испугом.
- Это извозчик отделался легким испугом, а не я,- ворчливо заметил О. Бендер.- Идиоты! Пишут, пишут - и сами не знают, что пишут. Ах! Это - "Станок". Очень, очень приятно. Вы знаете, Воробьянинов, что эту заметку, может быть, писали, сидя на нашем стуле? Забавная история!
Великий комбинатор задумался.
Повод для визита в редакцию был найден.
Осведомившись у секретаря о том, что все комнаты справа и слева во всю длину коридора заняты редакцией. Остап напустил на себя простецкий вид и предпринял обход редакционных помещений: ему нужно было узнать, в какой комнате находится стул.
Он влез в местком, где уже шло заседание молодых автомобилистов, и так как сразу увидел, что стула там нет, перекочевал в соседнее помещение. В конторе он делал вид, что ожидает резолюции; в отделе рабкоров узнавал, где здесь согласно объявлению продается макулатура; в секретариате выспрашивал условия подписки, а в комнате фельетонистов спросил, где принимают объявления об утере документов.
Таким образом он добрался до комнаты редактора, который, сидя на концессионном стуле, трубил в телефонную трубку.
Остапу нужно было время, чтобы внимательно изучить местность.
- Тут, товарищ редактор, на меня помещена форменная клевета,- сказал Бендер.
- Какая клевета? - спросил редактор.
Остап долго разворачивал экземпляр "Станка". Оглянувшись на дверь, он увидел на ней американский замок. Если вырезать кусочек стекла в двери, то легко можно было бы просунуть руку и открыть замок изнутри.
Редактор прочел указанную Остапом заметку.
- В чем же вы, товарищ, видите клевету?
- Как же! А вот это:
Пострадавший отделался легким испугом.
- Не понимаю.
Остап ласково смотрел на редактора и на стул.
- Стану я пугаться какого-то там извозчика! Опозорили перед всем миром - опровержение нужно.
- Вот что, гражданин,- сказал редактор,- никто вас не позорил, и по таким пустяковым вопросам мы опровержений не даем.
- Ну, все равно, я так этого дела не оставлю,- говорил Остап, покидая кабинет.
Он уже увидел все, что ему было нужно.
Глава XXVII. Замечательная допровская корзинка
Старгородское отделение эфемерного "Меча и орала" вместе с молодцами из "Быстроупака" выстроилось в длиннейшую очередь у мучного лабаза "Хлебопродукта".
Прохожие останавливались.
- Куда очередь стоит? - спрашивали граждане. В нудной очереди, стоящей у магазина, всегда есть один человек, словоохотливость которого тем больше, чем дальше он стоит от магазинных дверей. А дальше всех стоял Полесов.
- Дожили,- говорил брандмейстер,- скоро все на жмых перейдем. В девятнадцатом году и то лучше было. Муки в городе на четыре дня.
Граждане недоверчиво подкручивали усы, вступали с Полесовым в спор и ссылались на "Старгородскую правду".
Доказав Полесову, как дважды два - четыре, что муки в городе сколько угодно и что нечего устраивать панику, граждане бежали домой, брали все наличные деньги и присоединялись к мучной очереди.
Молодцы из "Быстроупака", закупив всю муку в лабазе, перешли на бакалею и образовали чайно-сахарную очередь.
В три дня Старгород был охвачен продовольственным и товарным кризисом. Представители кооперации и госторговли предложили, до прибытия находящегося в пути продовольствия, ограничить отпуск товаров в одни руки по фунту сахара и по пять фунтов муки.
На другой день было изобретено противоядие.
Первым в очереди за сахаром стоял Альхен. За ним - его жена Сашхен, Паша Эмильевич, четыре Яковлевича и все пятнадцать призреваемых старушек в туальденоровых нарядах. Выкачав из магазина Старгико полпуда сахару, Альхен увел свою очередь в другой кооператив, кляня по дороге Пашу Эмильевича, который успел слопать отпущенный на его долю фунт сахарного песку. Паша сыпал сахар горкой на ладонь и отправлял в свою широкую пасть. Альхен хлопотал целый день. Во избежание усушки и раструски он изъял Пашу Эмильевича из очереди и приспособил его для перетаскивания скупленного на привозной рынок. Там Альхен застенчиво перепродавал в частные лавочки добытые сахар, муку, чай и маркизет.
Полесов стоял в очередях главным образом из принципа. Денег у него не было, и купить он все равно ничего не мог. Он кочевал из очереди в очередь, прислушивался к разговорам, делал едкие замечания, многозначительно задирал брови и пророчествовал. Следствием его недомолвок было то, что город наполнили слухи о приезде какой-то с Мечи и Урала подпольной организации.
Губернатор Дядьев заработал в один день десять тысяч. Сколько заработал председатель биржевого комитета Кислярский, не знала даже его жена.
Мысль о том, что он принадлежит к тайному обществу, не давала Кислярскому покоя. Шедшие по городу слухи испугали его вконец. Проведя бессонную ночь, председатель биржевого комитета решил, что только чистосердечное признание может сократить ему срок пребывания в тюрьме.
- Слушай, Генриетта,- сказал он жене, - пора уже переносить мануфактуру к шурину.
- А что, разве придут? - спросила Генриетта Кислярская.
- Могут прийти. Раз в стране нет свободы торговли, то должен же я когда-нибудь сесть?
- Так что, уже приготовить белье? Несчастная моя жизнь! Вечно носить передачу. И почему ты не пойдешь в советские служащие? Ведь шурин состоит членом профсоюза, и - ничего! А этому обязательно нужно быть красным купцом!
Генриетта не знала, что судьба возвела ее мужа в председатели биржевого комитета. Поэтому она была спокойна.
- Может быть, я не приду ночевать, - сказал Кислярский, - тогда ты завтра приходи с передачей. Только, пожалуйста, не приноси вареников. Что мне за удовольствие есть холодные вареники?
- Может быть, возьмешь с собой примус?
- Так тебе и разрешат держать в камере примус! Дай мне мою корзинку.
У Кислярского была специальная допровская корзина. Сделанная по особому заказу, она была вполне универсальна. В развернутом виде она представляла кровать, в полуразвернутом - столик; кроме того, она заменяла шкаф: в ней были полочки, крючки и ящики. Жена положила в универсальную корзину холодный ужин и свежее белье.
- Можешь меня не провожать,- сказал опытный муж.- Если придет Рубенс за деньгами, скажи!, что денег нет. До свиданья! Рубенс может подождать.
И Кислярский степенно вышел на улицу, держа за ручку допровскую корзинку.
- Куда вы, гражданин Кислярский? - окликнул Полесов.
Он стоял у телеграфного столба и криками подбадривал рабочего связи, который, цепляясь железными когтями за столб, подбирался к изоляторам.
- Иду сознаваться,- ответил Кислярский.
- В чем?
- В мече и орале.
Виктор Михайлович лишился языка. А Кислярский, выставив вперед свой яйцевидный животик, опоясанный широким дачным поясом с накладным карманчиком для часов, неторопливо пошел в губпрокуратуру.
Виктор Михайлович захлопал крыльями и улетел к Дядьеву.
- Кислярский - провокатор! - закричал брандмейстер.- Только что пошел доносить. Его еще видно.
- Как? И корзинка при нем? - ужаснулся старгородский губернатор.
- При нем.
Дядьев поцеловал жену, крикнул, что если придет Рубенс, денег ему не давать, и стремглав выбежал на улицу. Виктор Михайлович завертелся, застонал, словно курица, снесшая яйцо, и побежал к Владе с Никешей.
Между тем гражданин Кислярский, медленно прогуливаясь, приближался к губпрокуратуре. По дороге он встретил Рубенса и долго с ним говорил.
- А как же деньги? - спросил Рубенс.
- За деньгами придете к жене.
- А почему вы с корзинкой? - подозрительно осведомился Рубенс.
- Иду в баню.
- Ну, желаю вам легкого пара.
Потом Кислярский зашел в кондитерскую ССПО, бывшую "Бонбон де Варсови", выкушал стакан кофе и съел слоеный пирожок. Пора было идти каяться. Председатель биржевого комитета вступил в приемную губпрокуратуры. Там было пусто. Кислярский подошел к двери, на которой было написано: "Губернский прокурор", и вежливо постучал.
- Можно! - ответил хорошо знакомый Кислярскому голос.
Кислярский вошел и в изумлении остановился. Его яйцевидный животик сразу же опал и сморщился, как финик. То, что он увидел, было полной для него неожиданностью.
Письменный стол, за которым сидел прокурор, окружали члены могучей организации "Меча и орала". Судя по их жестам и плаксивым голосам, они сознавались во всем.
- Вот он,- воскликнул Дядьев,- самый главный октябрист!
- Во-первых,- сказал Кислярский, ставя на пол допровскую корзинку и приближаясь к столу,- во-первых, я не октябрист, затем я всегда сочувствовал советской власти, а в-третьих, главный это не я, а товарищ Чарушников, адрес которого...
- Красноармейская! - закричал Дядьев.
- Номер три! - хором сообщили Владя и Никеша.
- Во двор и налево,- добавил Виктор Михайлович,- я могу показать.
Через двадцать минут привезли Чарушникова, который прежде всего заявил, что никого из присутствующих в кабинете никогда в жизни не видел. Вслед за этим, не сделав никакого перерыва, Чарушников донес на Елену Станиславовну.
Только в камере, переменив белье и растянувшись на допровской корзинке, председатель биржевого комитета почувствовал себя легко и спокойно.
Мадам Грицацуева-Бендер за время кризиса успела запастись пищевыми продуктами и товарами для своей лавчонки по меньшей мере на четыре месяца. Успокоившись, она снова загрустила о молодом супруге, томящемся на заседаниях Малого Совнаркома. Визит к гадалке не внес успокоения.
Елена Станиславовна, встревоженная исчезновением всего старгородского ареопага, метала карты с возмутительной небрежностью. Карты возвещали то конец мира, то прибавку к жалованью, то свидание с мужем в казенном доме и в присутствии недоброжелателя-пикового короля.
Да и самое гадание кончилось как-то странно. Пришли агенты - пиковые короли - и увели прорицательницу в казенный дом, к прокурору.
Оставшись наедине с попугаем, вдовица в смятении собралась было уходить, как вдруг попугай ударил клювом в клетку и первый раз в жизни заговорил человечьим голосом.
- Дожились! - сказал он сардонически, накрыл голову крылом и выдернул из-под мышки перышко.

Дожились!
Мадам Грицацуева-Бендер в страхе кинулась к дверям.
Вдогонку ей полилась горячая, сбивчивая речь. Древняя птица была так поражена визитом агентов и уводом хозяйки в казенный дом, что начала выкрикивать все знакомые ей слова. Наибольшее место в ее репертуаре занимал Виктор Михайлович Полесов.
- При наличии отсутствия,- раздраженно сказала птица.
И, повернувшись на жердочке вниз головой, подмигнула глазом застывшей у двери вдове, как бы говоря: "Ну, как вам это понравится, вдовица?"
- Мать моя! - простонала Грицацуева.
- В каком полку служили? - спросил попугай голосом Бендера.- Кр-р-р-р-рах... Европа нам поможет.
После бегства вдовы попугай оправил на себе манишку и сказал те слова, которые у него безуспешно пытались вырвать люди в течение тридцати лет:
- Попка дурак!
Вдова бежала по улице и голосила. А дома ее ждал вертлявый старичок. Это был Варфоломеич.
- По объявлению,- сказал Варфоломеич,- два часа жду, барышня.
Тяжелое копыто предчувствия ударило Грицацуеву в сердце.
- Ох! - запела вдова.- Истомилась душенька!
- От вас, кажется, ушел гражданин Бендер? Вы объявление давали?
Вдова упала на мешки с мукой.
- Какие у вас организмы слабые,- сладко сказал Варфоломеич.- Я бы хотел спервоначалу насчет вознаграждения уяснить себе...
- Ох!.. Все берите! Ничего мне теперь не жалко! - причитала чувствительная вдова.
- Так вот-с. Мне известно пребывание сыночка вашего О. Бендера. Какое вознаграждение будет?
- Все берите! - повторила вдова.
- Двадцать рублей,- сухо сказал Варфоломеич. Вдова поднялась с мешков. Она была замарана мукой. Запорошенные ресницы усиленно моргали.
- Сколько? - переспросила она.
- Пятнадцать рублей,- спустил цену Варфоломеич.
Он чуял, что и три рубля вырвать у несчастной женщины будет трудно.
Попирая ногами кули, вдова наступала на старичка, призывала в свидетели небесную силу и с ее помощью добилась твердой цены.
- Ну что ж, бог с вами, пусть пять рублей будет. Только деньги попрошу вперед. У меня такое правило.
Варфоломеич достал из записной книжечки две газетных вырезки и, не выпуская их из рук, стал читать:
- Вот извольте посмотреть по порядку. Вы писали, значит: "Умоляю... ушел из дому товарищ Бендер... зеленый костюм, желтые ботинки, голубой жилет..." Правильно ведь? Это "Старгородская правда", значит. А вот что пишут про сыночка вашего в столичных газетах. Вот... "Попал под лошадь..." Да вы не убивайтесь, мадамочка, дальше слушайте... "Попал под лошадь..." Да жив, жив! Говорю вам, жив. Нешто б я за покойника деньги брал бы? Так вот: "Попал под лошадь. Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гражданин О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом..." Так вот, эти документики я вам предоставляю, а вы мне денежки вперед. У меня уж такое правило.
Вдова с плачем отдала деньги. Муж, ее милый муж в желтых ботинках лежал на далекой московской земле, и огнедышащая извозчичья лошадь била копытом по его голубой гарусной груди.
Чуткая душа Варфоломеича удовлетворилась приличным вознаграждением. Он ушел, объяснив вдове, что дополнительные следы ее мужа безусловно найдутся в редакции газеты "Станок", где, уж конечно, все на свете известно.
ПИСЬМО ОТЦА ФЕДОРА,
писанное в Ростове, в водогрейне "Млечный Путь",
жене, своей в уездный город N
Милая моя Катя! Новое огорчение постигло меня, но об этом после. Деньги получил вполне своевременно, за что тебя сердечно благодарю. По приезде в Ростов сейчас же побежал по адресу. "Новоросцемент" - весьма большое учреждение, никто там инженера Брунса и не знал. Я уже было совсем отчаялся, но меня надоумили. Идите, говорят, в личный стол. Пошел. "Да,- сказали мне,- служил у нас такой, ответственную работу исполнял, только, говорят, в прошлом году он от нас ушел. Переманили его в Баку, на службу в Азнефть, по делу техники безопасности".
Ну, голубушка моя, не так кратко мое путешествие, как мы думали. Ты пишешь, что деньги на исходе. Ничего не поделаешь, Катерина Александровна. Конца ждать недолго. Вооружись терпением и, помолясь богу, продай мой диагоналевый студенческий мундир. И не такие еще придется нести расходы. Будь готова ко всему.
Дороговизна в Ростове ужасная. За номер в гостинице уплатил 2 р. 25 к. До Баку денег хватит. Оттуда, в случае удачи, телеграфирую.
Погоды здесь жаркие. Пальто ношу на руке. В номере боюсь оставить - того и гляди, украдут. Народ здесь бедовый.
Не нравится мне город Ростов. По количеству народонаселения и по своему географическому положению он значительно уступает Харькову. Но ничего, матушка, бог даст, и в Москву вместе съездим. Посмотришь тогда - совсем западноевропейский город. А потом заживем в Самаре, возле своего заводика.
Не приехал ли назад Воробьянинов? Где-то он теперь рыщет? Столуется ли еще Евстигнеев? Как моя ряса после чистки? Во всех знакомых поддерживай уверенность, будто я нахожусь у одра тетеньки. Гуленьке напиши то же.
Да! Совсем было позабыл рассказать тебе про страшный случай, происшедший со мной сегодня.
Любуясь тихим Доном, стоял я у моста и возмечтал о нашем будущем достатке. Тут поднялся ветер и унес в реку картузик брата твоего, булочника. Только я его и видел. Пришлось пойти на новый расход: купить английский кепи за 2 р. 50 к. Брату твоему, булочнику, ничего о случившемся не рассказывай. Убеди его, что я в Воронеже.
Плохо вот с бельем приходится. Вечером стираю, а если не высохнет, утром надеваю влажное. При теперешней жаре это даже приятно.
Целую тебя и обнимаю.
Твой вечно муж Федя.
Глава XXVIII. Курочка и тихоокеанский петушок
Репортер Персицкий деятельно готовился к двухсотлетнему юбилею великого математика Исаака Ньютона.
В разгар работы вошел Степа из "Науки и жизни". За ним плелась тучная гражданка.
- Слушайте, Персицкий,- сказал Степа,- к вам вот гражданка по делу пришла. Идите сюда, гражданка, этот товарищ вам объяснит.
Степа, посмеиваясь, убежал.
- Ну? - спросил Персицкий.- Что скажете?
Мадам Грицацуева (это была она) возвела на репортера томные глаза и молча протянула ему бумажку.
- Так,- сказал Персицкий,- ...попал под лошадь... отделался легким испугом... В чем же дело?
- Адрес,- просительно молвила вдова,- нельзя ли адрес узнать?
- Чей адрес?
- О. Бендера.
- Откуда же я знаю?
- А вот товарищ говорил, что вы знаете.
- Ничего я не знаю. Обратитесь в адресный стол.
- А может, вы вспомните, товарищ? В желтых ботинках.
- Я сам в желтых ботинках. В Москве еще двести тысяч человек в желтых ботинках ходят. Может быть, вам нужно узнать их адреса? Тогда пожалуйста. Я брошу всякую работу и займусь этим делом. Через полгода вы будете знать все. Я занят, гражданка.
Но вдова, которая почувствовала к Персицкому большое уважение, шла за ним по коридору и, стуча накрахмаленной нижней юбкой, повторяла свои просьбы.
"Сволочь Степа,- подумал Персицкий.- Ну, ничего, я на него напущу изобретателя вечного движения, он у меня попрыгает".
- Ну что я могу сделать? - раздраженно спросил Персицкий, останавливаясь перед вдовой.- Откуда я могу знать адрес гражданина О. Бендера? Что я - лошадь, которая на него наехала? Или извозчик, которого он на моих глазах ударил по спине?..
Вдова отвечала смутным рокотом, в котором можно было разобрать только "товарищ" и "очень вас".
Занятия в Доме народов уже кончились. Канцелярии и коридоры опустели. Где-то только дошлепывала страницу пишущая машинка.
- Пардон, мадам, вы видите, что я занят!
С этими словами Персицкий скрылся в уборной. Погуляв там десять минут, он весело вышел. Грицацуева терпеливо трясла юбками на углу двух коридоров. При приближении Персицкого она снова заговорила.
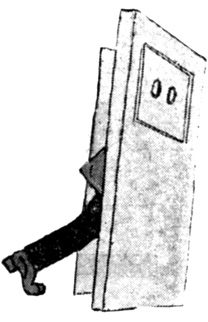
Персицкий скрылся в уборной...
Репортер осатанел.
- Вот что, тетка,- сказал он,- так и быть, я вам скажу, где ваш О. Бендер. Идите прямо по коридору, потом поверните направо и идите опять прямо. Там будет дверь. Спросите Черепенникова. Он должен знать.
И Персицкий, довольный своей выдумкой, так быстро исчез, что дополнительных сведений крахмальная вдовушка получить не успела.
Расправив юбки, мадам Грицацуева пошла по коридору.
Коридоры Дома народов были так длинны и узки, что идущие по ним невольно ускоряли ход. По любому прохожему можно было узнать, сколько он прошел. Если он шел чуть убыстренным шагом, это значило, что поход его только начат. Прошедшие два или три коридора развивали среднюю рысь. А иногда можно было увидеть человека, бегущего во весь дух: он находился в стадии пятого коридора. Гражданин же, отмахавший восемь коридоров, легко мог соперничать в быстроте с птицей, беговой лошадью и чемпионом мира - бегуном Нурми.
Повернув направо, мадам Грицацуева побежала. Трещал паркет.
Навстречу ей быстро шел брюнет в голубом жилете и малиновых башмаках. По лицу Остапа было видно, что посещение Дома народов в столь поздний час вызвано чрезвычайными делами концессии. Очевидно, в планы технического руководителя не входила встреча с любимой.
При виде вдовушки Бендер повернулся и, не оглядываясь, пошел вдоль стены назад.
- Товарищ Бендер,- закричала вдова в восторге,- куда же вы?
Великий комбинатор усилил ход. Наддала и вдова.
- Подождите, что я скажу,- просила она.

- Подождите, что я скажу,- просила она
Но слова не долетали до слуха Остапа. В его ушах уже пел и свистал ветер. Он мчался четвертым коридором, проскакивал пролеты внутренних железных лестниц. Своей любимой он оставил только эхо, которое долго повторяли ей лестничные шумы.
- Ну, спасибо,- бурчал Остап, сидя на пятом этаже, - нашла время для рандеву. Кто прислал сюда эту знойную дамочку? Пора уже ликвидировать московское отделение концессии, а то еще, чего доброго, ко мне приедет гусар-одиночка с мотором.
В это время мадам Грицацуева, отделенная от Остапа тремя этажами, тысячью дверей и дюжиной коридоров, вытерла подолом нижней юбки разгоряченное лицо и начала поиски. Сперва она хотела поскорей найти мужа и объясниться с ним. В коридорах зажглись несветлые лампы. Все лампы, все коридоры и все двери были одинаковы. Вдове стало страшно. Ей захотелось уйти.
Подчиняясь коридорной прогрессии, она неслась со все усиливающейся быстротой. Через полчаса уже невозможно было остановиться. Двери президиумов, секретариатов, месткомов, орготделов и редакций с грохотом пролетали по обе стороны ее громоздкого тела. На ходу железными своими юбками она опрокидывала урны для окурков. С кастрюльным шумом урны катились по ее следам. В углах коридоров образовывались вихри и водовороты. Хлопали растворившиеся форточки. Указующие персты, намалеванные трафаретом на стенах, втыкались в бедную путницу.
Наконец Грицацуева попала на площадку внутренней лестницы. Там было темно, но вдова преодолела страх, сбежала вниз и дернула стеклянную дверь. Дверь была заперта. Вдова бросилась назад. Но дверь, через которую она только что прошла, была тоже закрыта чьей-то заботливой рукой.
В Москве любят запирать двери.
Тысячи парадных подъездов заколочены изнутри досками, и сотни тысяч граждан пробираются в свои квартиры черным ходом. Давно прошел восемнадцатый год, давно уже стало смутным понятие - "налет на квартиру", сгинула подомовая охрана, организованная жильцами в целях безопасности, разрешается проблема уличного движения, строятся огромные электростанции, делаются величайшие научные открытия, но нет человека, который посвятил бы свою жизнь разрешению проблемы закрытых дверей.
Кто тот человек, который разрешит загадку кинематографов, театров и цирков?
Три тысячи человек должны за десять минут войти в цирк через одни-единственные, открытые только в одной своей половине двери. Остальные десять дверей, специально приспособленных для пропуска больших толп народа,- закрыты. Кто знает, почему они закрыты? Возможно, что лет двадцать назад из цирковой конюшни украли ученого ослика, и с тех пор дирекция в страхе замуровывает удобные входы и выходы. А может быть, когда-то сквозняком прохватило знаменитого короля воздуха, и закрытые двери есть только отголосок учиненного королем скандала.
В театрах и кино публику выпускают небольшими партиями, якобы во избежание затора. Избежать заторов очень легко - стоит только открыть имеющиеся в изобилии выходы. Но вместо того администрация действует, применяя силу. Капельдинеры, сцепившись руками, образуют живой барьер и таким образом держат публику в осаде не меньше получаса. А двери, заветные двери, закрытые еще при Павле Первом, закрыты и поныне.
Пятнадцать тысяч любителей футбола, возбужденные молодецкой игрой сборной Москвы, принуждены продираться к трамваю сквозь щель такую узкую, что один легко вооруженный воин мог бы задержать здесь сорок тысяч варваров, подкрепленных двумя осадными башнями.
Спортивный стадион не имеет крыши, но ворот есть несколько. Открыта только калиточка. Выйти можно, только проломив ворота. После каждого большого соревнования их ломают. Но в заботах об исполнении святой традиции их каждый раз аккуратно восстанавливают и плотно запирают.
Если уже нет никакой возможности привесить дверь (это бывает тогда, когда ее не к чему привесить), пускаются в ход скрытые двери всех видов:
1. Барьеры.
2. Рогатки.
3. Перевернутые скамейки.
4. Заградительные надписи.
5. Веревки.
Барьеры в большом ходу в учреждениях.
Ими преграждается доступ к нужному сотруднику. Посетитель, как тигр, ходит вдоль барьера, стараясь знаками обратить на себя внимание. Это удается не всегда. А может быть, посетитель принес полезное изобретение! А может быть, и просто хочет уплатить подоходный налог! Но барьер помешал - осталось неизвестным изобретение, и налог остался неуплаченным.
Рогатка применяется на улице.
Ставят ее весною на шумной магистрали якобы для ограждения производящегося ремонта тротуара. И мгновенно шумная улица делается пустынной. Прохожие просачиваются в нужные им места по другим улицам. Им ежедневно приходится делать лишний километр, но легкокрылая надежда их не покидает. Лето проходит. Вянет лист. А рогатка все стоит. Ремонт не сделан. И улица пустынна.
Перевернутыми садовыми скамейками преграждают входы в московские скверы, которые по возмутительной небрежности строителей не снабжены крепкими воротами.
О заградительных надписях можно было бы написать целую книгу, но это в планы авторов сейчас не входит.
Надписи эти бывают двух родов: прямые и косвенные.
К прямым можно отнести:
ВХОД ВОСПРЕЩАЕТСЯ
ПОСТОРОННИМ ЛИЦАМ ВХОД ВОСПРЕЩАЕТСЯ
ХОДА НЕТ
Такие надписи иной раз вывешиваются на дверях учреждений, особенно усиленно посещаемых публикой.
Косвенные надписи наиболее губительны. Они не запрещают входа, но редкий смельчак рискнет все-таки воспользоваться своим правом. Вот они, эти позорные надписи:
БЕЗ ДОКЛАДА НЕ ВХОДИТЬ
ПРИЕМА НЕТ
СВОИМ ПОСЕЩЕНИЕМ ТЫ МЕШАЕШЬ ЗАНЯТОМУ ЧЕЛОВЕКУ
Там, где нельзя поставить барьера или рогатки, перевернуть скамейки или вывесить заградительную надпись,- там протягиваются веревки. Протягиваются они по вдохновению, в самых неожиданных местах. Если они протянуты на высоте человеческой груди, дело ограничивается легким испугом и несколько нервным смехом. Протянутая же на высоте лодыжки веревка может искалечить человека.
К черту двери! К черту очереди у театральных подъездов! Разрешите войти без доклада! Умоляем снять рогатку, поставленную нерадивым управдомом у своей развороченной панели! Вон перевернутые скамейки! Поставьте их на место! В сквере приятно сидеть именно ночью. Воздух чист, и в голову лезут умные мысли!
Мадам Грицацуева, сидя на лестнице у запертой стеклянной двери в самой середине Дома народов, думала о своей вдовьей судьбе, изредка вздремывала и ждала утра.
Из освещенного коридора через стеклянную дверь на вдову лился желтый свет электрических плафонов. Пепельное утро проникало сквозь окна лестничной клетки.
Был тихий час, когда утро еще молодо и чисто. В этот час Грицацуева услышала шаги в коридоре. Вдова живо поднялась и припала к стеклу. В конце коридора сверкнул голубой жилет. Малиновые башмаки были запорошены штукатуркой. Ветреный сын турецко-подданного, стряхивая с пиджака пылинку, приближался к стеклянной двери.
- Суслик! - позвала вдова.- Су-у-услик!
Она дышала на стекло с невыразимой нежностью. Стекло затуманилось, пошло радужными пятнами. В тумане и радугах сияли голубые и малиновые призраки.
Остап не слышал кукования вдовы. Он почесывал спину и озабоченно крутил головой. Еще секунда - и он пропал бы за поворотом.
Со стоном "товарищ Бендер!" бедная супруга забарабанила по стеклу. Великий комбинатор обернулся.
- А,- сказал он, видя, что отделен от вдовы закрытой дверью,- вы тоже здесь?
- Здесь, здесь,- твердила вдова радостно.
- Обними же меня, моя радость, мы так долго не виделись,- пригласил технический директор.
Вдова засуетилась. Она подскакивала за дверью, как чижик в клетке. Притихшие за ночь юбки опять загремели. Остап раскрыл объятия.
- Что же ты не идешь, моя курочка? Твой тихоокеанский петушок так устал на заседании Малого Совнаркома.
Вдова была лишена фантазии.
- Суслик,- сказала она в пятый раз.- Откройте мне дверь, товарищ Бендер.
- Тише, девушка! Женщину украшает скромность. К чему эти прыжки?
Вдова мучилась.
- Ну, чего вы терзаетесь? - спрашивал Остап.- Кто вам мешает жить?
- Сам уехал, а сам спрашивает! И вдова заплакала.
- Утрите ваши глазки, гражданка. Каждая ваша слезинка -это молекула в космосе.
- А я ждала, ждала, торговлю закрыла. За вами поехала, товарищ Бендер...
- Ну, и как вам теперь живется на лестнице? Не дует?
Вдова стала медленно закипать, как большой монастырский самовар.
- Изменщик! - выговорила она, вздрогнув.
У Остапа было еще немного свободного времени. Он защелкал пальцами и, ритмично покачиваясь, тихо пропел:
Частица черта в нас Заключена подчас! И сила женских чар Родит в груди пожар...
- Чтоб тебе лопнуть! - пожелала вдова по окончании танца.- Браслет украл, мужнин подарок. А стул зачем забрал?
- Вы, кажется, переходите на личности?- заметил Остап холодно.
- Украл, украл! - твердила вдова.
- Вот что, девушка: зарубите на своем носике, что Остап Бендер никогда ничего не крал.
- А ситечко кто взял?
- Ах, ситечко! Из вашего неликвидного фонда? И это вы считаете кражей? В таком случае наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны.
- Унес,- куковала вдова.
- Значит, если молодой, здоровый человек позаимствовал у провинциальной бабушки ненужную ей, по слабости здоровья, кухонную принадлежность, то, значит, он вор? Так вас прикажете понимать?
- Вор, вор!
- В таком случае нам придется расстаться. Я согласен на развод.
Вдова кинулась на дверь. Стекла задрожали. Остап понял, что пора уходить.
- Обниматься некогда,- сказал он,- прощай, любимая! Мы разошлись, как в море корабли.
- Караул!! - завопила вдова.
Но Остап уже был в конце коридора. Он встал на подоконник, тяжело спрыгнул на влажную после ночного дождя землю и скрылся в блистающих физкультурных садах.
На крики вдовы набрел проснувшийся сторож. Он выпустил узницу, пригрозив штрафом.
Глава XXIX. Автор "Гаврилиады"
Когда мадам Грицацуева покидала негостеприимный стан канцелярий, к Дому народов уже стекались служащие самых скромных рангов: курьеры, входящие и исходящие барышни, сменные телефонистки, юные помощники счетоводов и бронеподростки.
Среди них двигался Никифор Ляпис, очень молодой человек с бараньей прической и нескромным взглядом.
Невежды, упрямцы и первичные посетители входили в Дом народов с главного подъезда. Никифор Ляпис проник в здание через амбулаторию. В Доме народов он был своим человеком и знал кратчайшие пути к оазисам, где брызжут светлые ключи гонорара под широколиственной сенью ведомственных журналов.
Прежде всего Никифор Ляпис пошел в буфет. Никелированная касса сыграла матчиш и выбросила три чека. Никифор съел варенец, вскрыв запечатанный бумагой стакан, и кремовое пирожное, похожее на клумбочку. Все это он запил чаем. Потом Ляпис неторопливо стал обходить свои владения.
Первый визит он сделал в редакцию ежемесячного охотничьего журнала "Герасим и Муму". Товарища Наперникова еще не было, и Никифор Ляпис двинулся в "Гигроскопический вестник", еженедельный рупор, посредством которого работники фармации общались с внешним миром.
- Доброе утро,- сказал Никифор.- Написал замечательные стихи.
- О чем? - спросил начальник литстранички.- На какую тему? Ведь вы же знаете, Трубецкой, что у нас журнал...
Начальник для более тонкого определения сущности "Гигроскопического вестника" пошевелил пальцами.
Трубецкой-Ляпис посмотрел на свои брюки из белой рогожи, отклонил корпус назад и певуче сказал:
- "Баллада о гангрене".
- Это интересно,- заметила гигроскопическая персона.- Давно пора в популярной форме проводить идеи профилактики.
Ляпис немедленно задекламировал:
Страдал Гаврила от гангрены, Гаврила от гангрены слег...
Дальше тем же молодецким четырехстопным ямбом рассказывалось о Гавриле, который по темноте своей не пошел вовремя в аптеку и погиб из-за того, что не смазал ранку йодом.
- Вы делаете успехи, Трубецкой,- одобрил редактор,- но хотелось бы еще больше... Вы понимаете?
Он задвигал пальцами, но страшную балладу взял, обещав уплатить во вторник.
В журнале "Будни морзиста" Ляписа встретили гостеприимно.
- Хорошо, что вы пришли, Трубецкой. Нам как раз нужны стихи. Только - быт, быт, быт. Никакой лирики. Слышите, Трубецкой? Что-нибудь из жизни потельработников и вместе с тем, вы понимаете?..
- Вчера я именно задумался над бытом потельработников. И у меня вылилась такая поэма. Называется: "Последнее письмо". Вот...
Служил Гаврила почтальоном, Гаврила письма разносил...
История о Гавриле была заключена в семьдесят две строки. В конце стихотворения письмоносец Гаврила, сраженный пулей фашиста, все же доставляет письмо по адресу.
- Где же происходило дело? - спросили Ляписа. Вопрос был законный. В СССР нет фашистов, за границей нет Гаврил, членов союза работников связи.
- В чем дело? - сказал Ляпис. - Дело происходит, конечно, у нас, а фашист переодетый.
- Знаете, Трубецкой, напишите лучше нам о радиостанции.
- А почему вы не хотите почтальона?
- Пусть полежит. Мы его берем условно. Погрустневший Никифор Ляпис-Трубецкой пошел
снова в "Герасим и Муму". Наперников уже сидел за своей конторкой. На стене висел сильно увеличенный портрет Тургенева, в пенсне, болотных сапогах и с двустволкой наперевес. Рядом с Наперниковым стоял конкурент Ляписа - стихотворец из пригорода.
Началась старая песня о Гавриле, но уже с охотничьим уклоном. Творение шло под названием: "Молитва браконьера".
Гаврила ждал в засаде зайца, Гаврила зайца подстрелил...
- Очень хорошо! - сказал добрый Наперников.- Вы, Трубецкой, в этом стихотворении превзошли самого Энтиха. Только нужно кое-что исправить. Первое - выкиньте с корнем "молитву".
- И зайца,- сказал конкурент.
- Почему же зайца? - удивился Наперников.
- Потому что не сезон.
- Слышите, Трубецкой, измените и зайца. Поэма в преображенном виде носила название:
"Урок браконьеру", а зайцы были заменены бекасами. Потом оказалось, что бекасов летом тоже не стреляют. В окончательной форме стихи читались:
Гаврила ждал в засаде птицу. Гаврила птицу подстрелил...
и т. д.
После завтрака в столовой Ляпис снова принялся за работу. Белые брюки мелькали в темноте коридоров. Он входил в редакции и продавал многоликого Гаврилу.
В "Кооперативную флейту" Гаврила был сдан под названием "Эолова флейта".
Служил Гаврила за прилавком. Гаврила флейтой торговал...
Простаки из толстого журнала "Лес, как он есть" купили у Ляписа небольшую поэму "На опушке". Начиналась она так:
Гаврила шел кудрявым лесом, Бамбук Гаврила порубал...
Последний за этот день Гаврила занимался хлебопечением. Ему нашлось место в редакции "Работника булки". Поэма носила длинное и грустное название: "О хлебе, качестве продукции и о любимой". Поэма посвящалась загадочной Хине Члек. Начало было по-прежнему эпическим:
Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булку испекал...
Посвящение, после деликатной борьбы, выкинули. Самое печальное было то, что Ляпису денег нигде не дали. Одни обещали дать во вторник, другие - в четверг или пятницу - через две недели. Пришлось идти занимать деньги в стан врагов - туда, где Ляписа никогда не печатали.
Ляпис спустился с пятого этажа на второй и вошел в секретариат "Станка". На его несчастье, он сразу же столкнулся с работягой Персицким.
- А! - воскликнул Персицкий.- Ляпсус!
- Слушайте, - сказал Никифор Ляпис, понижая голос,- дайте три рубля. Мне "Герасим и Муму" должен кучу денег.
- Полтинник я вам дам. Подождите. Я сейчас приду.
И Персицкий вернулся, приведя с собой десяток сотрудников "Станка".
Завязался общий разговор.
- Ну, как торговали? - спрашивал Персицкий.
- Написал замечательные стихи!
- Про Гаврилу? Что-нибудь крестьянское? "Пахал Гаврила спозаранку, Гаврила плуг свой обожал"?
- Что Гаврила! Ведь это же халтура! - защищался Ляпис.- Я написал о Кавказе.
- А вы были на Кавказе?
- Через две недели поеду.
- А вы не боитесь, Ляпсус? Там же шакалы!

Десяток сотрудников 'Станка'
- Очень меня это пугает! Они же на Кавказе не ядовитые!
После этого ответа все насторожились.
- Скажите, Ляпсус,- спросил Персицкий,- какие, по-вашему, шакалы?
- Да знаю я, отстаньте!
- Ну, скажите, если знаете!
- Ну, такие... В форме змеи.
- Да, да, вы правы, как всегда. По-вашему, ведь седло дикой козы подается к столу вместе со стременами.
- Никогда я этого не говорил! - закричал Трубецкой.
- Вы не говорили. Вы писали. Мне Наперников говорил, что вы пытались всучить ему такие стишата в "Герасим и Муму", якобы из быта охотников. Скажите по совести, Ляпсус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас в стихотворении "Кантон" пеньюар - это бальное платье? Почему?!
- Вы - мещанин,- сказал Ляпис хвастливо.
- Почему в стихотворении "Скачка на приз Буденного" жокей у вас затягивает на лошади супонь и после этого садится на облучок? Вы видели когда-нибудь супонь?
- Видел.
- Ну, скажите, какая она!
- Оставьте меня в покое. Вы псих!
- А облучок видели? На скачках были?
- Не обязательно всюду быть! - кричал Ляпис. - Пушкин писал турецкие стихи и никогда не был в Турции.
- О да, Эрзерум ведь находится в Тульской губернии.
Ляпис не понял сарказма. Он горячо продолжал:
- Пушкин писал по материалам. Он прочел историю Пугачевского бунта, а потом написал. А мне про скачки все рассказал Энтих.
После этой виртуозной защиты Персицкий потащил упирающегося Ляписа в соседнюю комнату. Зрители последовали за ними. Там на стене висела большая газетная вырезка, обведенная траурной каймой.
- Вы писали этот очерк в "Капитанском мостике"?
- Я писал.
- Это, кажется, ваш первый опыт в прозе? Поздравляю вас! "Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом..." Ну, удружили же вы "Капитанскому мостику"! "Мостик" теперь долго вас не забудет, Ляпис!
- В чем дело?
- Дело в том, что... Вы знаете, что такое домкрат?
- Ну, конечно, знаю, оставьте меня в покое...
- Как вы себе представляете домкрат? Опишите своими словами.
- Такой... Падает, одним словом.
- Домкрат падает. Заметьте все! Домкрат стремительно падает! Подождите, Ляпсус, я вам сейчас принесу полтинник. Не пускайте его!
Но и на этот раз полтинник выдан не был. Персицкий притащил из справочного бюро двадцать первый том Брокгауза, от Домиций до Евреинова. Между Домицием, крепостью в великом герцогстве Мекленбург-Шверинском, и Доммелем, рекой в Бельгии и Нидерландах, было найдено искомое слово.
- Слушайте! "Домкрат (нем. Daumkraft) - одна из машин для поднятия значительных тяжестей. Обыкновенный простой Д., употребляемый для поднятия экипажей и т. п., состоит из подвижной зубчатой полосы, которую захватывает шестерня, вращаемая помощью рукоятки..." И так далее. И далее: "Джон Диксон в 1879 г. установил на место обелиск, известный под названием "Иглы Клеопатры", при помощи четырех рабочих, действовавших четырьмя гидравлическими Д.". И этот прибор, по-вашему, обладает способностью стремительно падать? Значит, Брокгауз с Эфроном обманывали человечество в течение пятидесяти лет? Почему вы халтурите, вместо того чтобы учиться? Ответьте!
- Мне нужны деньги.
- Но у вас же их никогда нет. Вы ведь вечно рыщете за полтинником.
- Я купил мебель и вышел из бюджета.
- И много вы купили мебели? Вам за вашу халтуру платят столько, сколько она стоит,- грош!
- Хороший грош! Я такой стул купил на аукционе...
- В форме змеи?
- Нет. Из дворца. Но меня постигло несчастье. Вчера я вернулся ночью домой...
- От Хины Члек? - закричали присутствующие в один голос.
- Хина!.. С Хиной я сколько времени уже не живу. Возвращался я с диспута Маяковского. Прихожу. Окно открыто. Я сразу почувствовал, что что-то случилось.
- Ай-яй-яй! - сказал Персицкий, закрывая лицо руками.- Я чувствую, товарищи, что у Ляпсуса украли его лучший шедевр "Гаврила дворником служил, Гаврила в дворники нанялся".
- Дайте мне договорить. Удивительное хулиганство! Ко мне в комнату залезли какие-то негодяи и распороли всю обшивку стула. Может быть, кто-нибудь займет пятерку на ремонт?
- Для ремонта сочините нового Гаврилу. Я вам даже начало могу сказать. Подождите, подождите...
Сейчас... Вот: "Гаврила стул купил на рынке, был у Гаврилы стул плохой". Скорее запишите. Это можно с прибылью продать в "Голос комода"... Эх, Трубецкой, Трубецкой!.. Да, кстати, Ляпсус, почему вы Трубецкой? Почему вам не взять псевдоним еще получше? Например, Долгорукий! Никифор Долгорукий! Или Никифор Валуа? Или еще лучше: гражданин Никифор Сумароков-Эльстон? Если у вас случится хорошая кормушка, сразу три стишка в "Гермуму", то выход из положения у вас блестящий. Один бред подписывается Сумароковым, другая макулатура - Эльстоном, а третья - Юсуповым... Эх вы, халтурщик!..
Глава XXX. В театре Колумба
Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом. Когда он смотрел на Остапа, глаза его приобретали голубой жандармский оттенок.
В комнате Иванопуло было так жарко, что высохшие воробьяниновские стулья потрескивали, как дрова в камине. Великий комбинатор отдыхал, подложив под голову голубой жилет.
Ипполит Матвеевич смотрел в окно. Там, по кривым переулкам, мимо крошечных московских садов, проносилась гербовая карета. В черном ее лаке попеременно отражались кланяющиеся прохожие: кавалергард с медной головой, городские дамы и пухлые белые облачка. Громя мостовую подковами, лошади понесли карету мимо Ипполита Матвеевича. Он отвернулся с разочарованием.
Карета несла на себе герб МКХ, предназначалась для перевозки мусора, и ее дощатые стенки ничего не отражали.
На козлах сидел бравый старик с пушистой седой бородой. Если бы Ипполит Матвеевич знал, что кучер не кто иной, как граф Алексей Буланов, знаменитый гусар-схимник, он, вероятно, окликнул бы старика, чтобы поговорить с ним о прелестных прошедших временах.
Граф Алексей Буланов был сильно озабочен. Нахлестывая лошадей, он грустно размышлял о бюрократизме, разъедающем ассенизационный подотдел, из-за которого графу вот уже полгода как не выдавали положенного по гендоговору спецфартука.
- Послушайте,- сказал вдруг великий комбинатор,- как вас звали в детстве?
- А зачем вам?
- Да так! Не знаю, как вас называть. Воробьяниновым звать вас надоело, а Ипполитом Матвеевичем - слишком кисло. Как же вас звали? Ипа?
- Киса,- ответил Ипполит Матвеевич, усмехаясь.
- Конгениально. Так, вот что, Киса,- посмотрите, пожалуйста, что у меня на спине. Болит между лопатками.
Остап стянул через голову рубашку "ковбой". Перед Кисой Воробьяниновым открылась обширная спина захолустного Антиноя, спина очаровательной формы, но несколько грязноватая.
- Ого,- сказал Ипполит Матвеевич,- краснота какая-то.
Между лопатками великого комбинатора лиловели и переливались нефтяной радугой синяки странных очертаний.
- Честное слово, цифра восемь! - воскликнул Воробьянинов.- Первый раз вижу такой синяк.
- А другой цифры нет? - спокойно спросил Остап.
- Как будто бы буква Р.
- Вопросов больше не имею. Все понятно. Проклятая ручка! Видите, Киса, как я страдаю, каким опасностям подвергаюсь из-за ваших стульев. Эти арифметические знаки нанесены мне большой самопадающей ручкой с пером номер восемьдесят шесть. Нужно вам заметить, что проклятая ручка упала на мою спину в ту самую минуту, когда я погрузил руки во внутренность редакторского стула. А вы, ничего-то вы толком не умеете. Изнуренковский стул кто изгадил так, что мне потом пришлось за вас отдуваться? Об аукционе я уж и не говорю. Нашли время для кобеляжа! В вашем возрасте кобелировать просто вредно! Берегите свое здоровье!.. То ли дело я! За мною - стул вдовицы. За мною - два щукинских. Изнуренковский стул в конечном итоге сделал я! В редакцию и к Ляпису я ходил! И только один-единственный стул вы довели до победного конца, да и то при помощи нашего священного врага - архиепископа.

Между лопатками великого комбинатора лиловели и переливались нефтяной радугой синяки странных очертаний
Неслышно ступая по комнате босыми ногами, технический директор вразумлял покорного Кису.
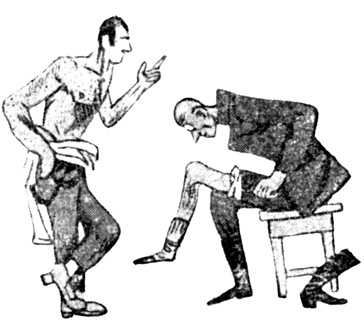
Вразумляя покорного Кису...
Стул, исчезнувший в товарном дворе Октябрьского вокзала, по-прежнему оставался темным пятном на сверкающем плане концессионных работ. Четыре стула в театре Колумба представляли верную добычу. Но театр уезжал в поездку по Волге с тиражным пароходом "Скрябин" и сегодня показывал премьеру "Женитьбы" последним спектаклем сезона. Нужно было решить - оставаться ли в Москве для розысков пропавшего в просторах Каланчевской площади стула пли выехать вместе с труппой в гастрольное турне. Остап склонялся к последнему.
- А то, может быть, разделимся? - спросил Остап.- Я поеду с театром, а вы оставайтесь и проследите за стулом в товарном дворе.
Но Киса так трусливо моргал седыми ресницами, что Остап не стал продолжать.
- Из двух зайцев,- сказал он,- выбирают того, который пожирнее. Поедем вместе. Но расходы будут велики. Нужны будут деньги. У меня осталось шестьдесят рублей. У вас сколько? Ах, я забыл! В ваши годы девичья любовь так дорого стоит! Постановляю: сегодня мы идем в театр на премьеру "Женитьбы". Не забудьте надеть фрак. Если стулья еще на месте и их не продали за долги соцстраху, завтра же мы выезжаем. Помните, Воробьянинов, наступает последний акт комедии "Сокровище моей тещи". Приближается финита-ля-комедия, Воробьянинов! Не дышите, мой старый друг! Равнение на рампу! О, моя молодость! О, запах кулис! Сколько воспоминаний! Сколько интриг! Сколько таланту я показал в свое время в роли Гамлета! Одним словом, заседание продолжается!
Из экономии, шли в театр пешком. Еще было совсем светло, но фонари уже сияли лимонным светом. На глазах у всех погибала весна. Пыль гнала ее с площадей, жаркий ветерок оттеснял ее в переулок. Там старушки приголубливали красавицу и пили с ней чай во двориках, за круглыми столами. Но жизнь весны кончилась - в люди ее не пускали. А ей так хотелось к памятнику Пушкина, где уже прогуливались молодые люди в пестреньких кепках, брюках-дудочках, галстуках "собачья радость" и ботиночках "джимми".
Девушки, осыпанные лиловой пудрой, циркулировали между храмом МСПО и кооперативом "Коммунар" (между б. Филипповым и б. Елисеевым). Девушки внятно ругались. В этот час прохожие замедляли шаги, но не только потому, что Тверская становилась тесна. Московские лошади были не лучше старгородских: они так же нарочно постукивали копытами по торцам мостовой. Велосипедисты бесшумно летели со стадиона "Юных пионеров", с первого большого междугородного матча. Мороженщик катил свой зеленый сундук, полный майского грома, боязливо косясь на милиционера; но милиционер, скованный светящимся семафором, которым регулировал уличное движение, был неопасен.
Во всей этой сутолоке двигались два друга. Соблазны возникали на каждом шагу. В крохотных обжорочках на виду у всей улицы жарили шашлыки карские, кавказские и филейные. Горячий и пронзительный дым восходил к светленькому небу. Из пивных, ресторанчиков и кино "Великий немой" неслась струнная музыка. У трамвайной остановки горячился громкоговоритель.
Нужно было торопиться. Друзья вступили в гулкий вестибюль театра Колумба.
Воробьянинов бросился к кассе и прочел расценку на места.
- Все-таки,- сказал он,- очень дорого. Шестнадцатый ряд - три рубля.
- Как я не люблю,- заметил Остап,- этих мещан, провинциальных простофиль! Куда вы полезли? Разве вы не видите, что это касса?
- Ну а куда же? Ведь без билета не пустят!
- Киса, вы пошляк. В каждом благоустроенном театре есть два окошечка. В окошечко кассы обращаются только влюбленные и богатые наследники. Остальные граждане (их, как можете заметить, подавляющее большинство) обращаются непосредственно в окошечко администратора.
И действительно, перед окошечком кассы стояло человек пять скромно одетых людей. Возможно, это были богатые наследники или влюбленные. Зато у окошечка администратора господствовало оживление. Там стояла цветная очередь. Молодые люди, в фасонных пиджаках и брюках того покроя, который провинциалу может только присниться, уверенно размахивали записочками от знакомых им режиссеров, артистов, редакций, театрального костюмера, начальника района милиции и прочих, тесно связанных с театром лиц, как-то: членов ассоциации теа- и кинокритиков, общества "Слезы бедных матерей", школьного совета "мастерской циркового эксперимента" и какого-то "Фортинбраса при Умслопогасе". Человек восемь стояли с записками от Эспера Эклеровича.
Остап врезался в очередь, растолкал фортинбрасовцев и, крича: "Мне только справку, вы не видите, что я даже калош не снял",- пробился к окошечку и заглянул внутрь.

Остап врезался в очередь
Администратор трудился, как грузчик. Светлый брильянтовый пот орошал его жирное лицо. Телефон тревожил его поминутно и звонил с упорством трамвайного вагона, пробирающегося через Смоленский рынок.
- Скорее,- крикнул он Остапу,- вашу бумажку!
- Два места,- сказал Остап тихо,- в партере.
- Кому?
- Мне!
- А кто вы такой, чтоб я давал вам места?
- А я все-таки думаю, что вы меня знаете.
- Не узнаю.
Но взгляд незнакомца был так чист, так ясен, что рука администратора сама отвела Остапу два места в одиннадцатом ряду.
- Ходят всякие,- сказал администратор, пожимая плечами,- кто их знает, кто они такие! Может быть, он из Наркомпроса? Кажется, я его видел в Наркомпросе. Где я его видел?
И, машинально выдавая пропуска счастливым теа- и кинокритикам, притихший Яков Менелаевич продолжал вспоминать, где он видел эти чистые глаза.
Когда все пропуска были выданы и в фойе уменьшили свет, Яков Менелаевич вспомнил: эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу.
Из одиннадцатого ряда, где сидели концессионеры, послышался смех. Остапу понравилось музыкальное вступление, исполненное оркестрантами на бутылках, кружках Эсмарха, саксофонах и больших полковых барабанах. Свистнула флейта, и занавес, навевая прохладу, расступился.
К удивлению Воробьянинова, привыкшего к классической интерпретации "Женитьбы", Подколесина на сцене не было. Порыскав глазами, Ипполит Матвеевич увидел свисающие с потолка фанерные прямоугольники, выкрашенные в основные цвета солнечного спектра. Ни дверей, ни синих кисейных окон не было. Под разноцветными прямоугольниками танцевали дамочки в больших, вырезанных из черного картона шляпах. Бутылочные стоны вызвали на сцену Подколесина, который врезался в толпу верхом на Степане. Подколесин был наряжен в камергерский мундир. Разогнав дамочек словами, которые в пьесе не значились, Подколесин возопил:
- Степа-ан!
Одновременно с этим он прыгнул в сторону и замер в трудной позе. Кружки Эсмарха загремели.
- Степа-а-ан!! - повторил Подколесин, делая новый прыжок.
Но так как Степан, стоящий тут же и одетый в барсову шкуру, не откликался, Подколесин трагически спросил:
- Что же ты молчишь, как Лига наций?
- Очевидно, я Чемберлена испужался,- ответил Степан, почесывая шкуру. -
Чувствовалось, что Степан оттеснит Подколесина и станет главным персонажем осовремененной пьесы.
- Ну что, шьет портной сюртук?
Прыжок. Удар по кружкам Эсмарха. Степан с усилием сделал стойку на руках и в таком положении ответил:
- Шьет!
Оркестр сыграл попурри из "Чио-Чио-Сан". Все это время Степан стоял на руках. Лицо его залилось краской.
- А что,- спросил Подколесин,- не спрашивал ли портной, на что, мол, барину такое хорошее сукно?
Степан, который к тому времени сидел уже в оркестре и обнимал дирижера, ответил:
- Нет, не спрашивал. Разве он депутат английского парламента?
- А не спрашивал ли портной, не хочет ли, мол, барин жениться?
- Портной спрашивал, не хочет ли, мол, барин платить алименты.
После этого свет погас, и публика затопала ногами. Топала она до тех пор, покуда со сцены не послышался голос Подколесина:
- Граждане! Не волнуйтесь! Свет потушили нарочно, по ходу действия. Этого требует вещественное оформление.
Публика покорилась. Свет так и не зажигался до конца акта. В полной темноте гремели барабаны. С фонарями прошел отряд военных в форме гостиничных швейцаров. Потом, как видно - на верблюде, приехал Кочкарев. Судить обо всем этом можно было из следующего диалога:
- Фу, как ты меня испугал! А еще на верблюде приехал!
- Ах, ты заметил, несмотря на темноту?! А я хотел преподнести тебе сладкое вер-блюдо! В антракте концессионеры прочли афишу:
ЖЕНИТЬБА
Текст - Н. В. Гоголя
Стихи - М. Шершеляфамова
Литмонтаж - И. Антиохийского
Музыкальное сопровождение - X. Иванова
Автор спектакля - Ник. Сестрин
Вещественное оформление - Симбиевич-Синдиевич
Свет - Платон Плащук. Звуковое оформление - Галкина, Палкина, Малкина, Чалкина и Залкинда. Грим - мастерской Крулт. Парики - Фома Кочура. Мебель - древесных мастерских Фортинбраса при Умслопогасе им. Валтасара. Инструктор акробатики - Жоржетта Тираспольских. Гидравлический пресс - под управлением монтера Мечникова.
Афиша набрана, сверстана и отпечатана
в школе ФЗУ КРУЛТ
- Вам нравится? - робко спросил Ипполит Матвеевич.
- А вам?
- Очень интересно, только Степан какой-то странный.
- А мне не понравилось, - сказал Остап,- в особенности то, что мебель у них каких-то мастерских Вогопаса, Не приспособили ли они наши стулья на новый лад?
Эти опасения оказались напрасными. В начале же второго акта все четыре стула были вынесены на сцену неграми в цилиндрах.
Сцена сватовства вызвала наибольший интерес зрительного зала. В ту минуту, когда на протянутой через весь зал проволоке начала спускаться Агафья Тихоновна, страшный оркестр Х. Иванова произвел такой шум, что от него одного Агафья Тихоновна должна была бы упасть в публику. Однако Агафья держалась на сцене прекрасно. Она была в трико телесного цвета и мужском котелке. Балансируя зеленым зонтиком с надписью: "Я хочу Подколесина", она переступала по проволоке, и снизу всем были видны ее грязные подошвы. С проволоки она спрыгнула прямо на стул. Одновременно с этим все негры, Подколесин, Кочкарев в балетных пачках и сваха в костюме вагоновожатого сделали обратное сальто. Затем все отдыхали пять минут, для сокрытия чего был снова погашен свет.
Женихи были очень смешны, в особенности - Яичница, Вместо него выносили большую яичницу на сковороде. На моряке была мачта с парусом.
Напрасно купец Стариков кричал, что его душат патент и уравнительный. Он не понравился Агафье Тихоновне. Она вышла замуж за Степана. Оба принялись уписывать яичницу, которую подал им обратившийся в лакея Подколесин. Кочкарев с Феклой спели куплеты про Чемберлена и про алименты, которые британский министр взимает с Германии. На кружках Эсмарха сыграли отходную. И занавес, навевая прохладу, захлопнулся.
- Я доволен спектаклем,- сказал Остап,- стулья в целости. Но нам медлить нечего. Если Агафья Тихоновна будет ежедневно на них гукаться, то они недолго проживут.
Молодые люди в фасонных пиджаках, толкаясь и смеясь, вникали в тонкости вещественного и звукового оформления.
- Ну,- сказал Остап,- вам, Кисочка, надо бай-бай. Завтра с утра нужно за билетами становиться. Театр в семь вечера выезжает ускоренным в Нижний. Так что вы берите два жестких места для сиденья до Нижнего, Курской дороги. Не беда - посидим. Всего одна ночь.
На другой день весь театр Колумба сидел в буфете Курского вокзала. Симбиевич-Синдиевич, приняв меры к тому, чтобы вещественное оформление пошло этим же поездом, закусывал за столиком. Вымочив в пиве усы, он тревожно спрашивал монтера:
- Что, гидравлический пресс не сломают в дороге?
- Беда с этим прессом,- отвечал Мечников,- работает он у нас пять минут, а возить его целое лето придется.
- А с "прожектором времен" тебе легче было, из пьесы "Порошок идеологии"?
- Конечно, легче. Прожектор хоть и больше был, но зато не такой ломкий.
За соседним столиком сидела Агафья Тихоновна, молоденькая девушка с ногами твердыми и блестящими, как кегли. Вокруг нее хлопотало звуковое оформление - Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд.
- Вы вчера мне не в ногу подавали,- жаловалась Агафья Тихоновна,- я так и свалиться могу.
Звуковое оформление загалдело:
- Что ж делать! Две кружки лопнули!
- Разве теперь достанешь заграничную кружку Эсмарха? - кричал Галкин.
- Зайдите в Госмедторг. Не то что кружки Эсмарха, термометра купить нельзя! - поддержал Палкин.
- А вы разве и на термометрах играете? - ужаснулась девушка.
- На термометрах мы не играем,- заметил Залкинд,- но из-за этих проклятых кружек прямо-таки заболеваешь - приходится мерить температуру.
Автор спектакля и главный режиссер Ник. Сестрин прогуливался с женою по перрону. Подколесин с Кочкаревым хлопнули по три рюмки и наперебой ухаживали за Жоржеттой Тираспольских.
Концессионеры., пришедшие за два часа до отхода поезда, совершили уже пятый рейс вокруг сквера, разбитого перед вокзалом.
Голова у Ипполита Матвеевича кружилась. Погоня за стульями входила в решающую стадию. Удлиненные тени лежали на раскаленной мостовой. Пыль садилась на мокрые, потные лица. Подкатывали пролетки. Пахло бензином. Наемные машины высаживали пассажиров. Навстречу им выбегали Ермаки Тимофеевичи, уносили чемоданы, и овальные бляхи их сияли на солнце. Муза дальних странствий хватала людей за горло.
- Ну, пойдем и мы,- сказал Остап.
Ипполит Матвеевич покорно согласился. Тут он столкнулся лицом к лицу с гробовых дел мастером Безенчуком.
- Безенчук!- сказал он в крайнем удивлении.- Ты как сюда попал?
Безенчук снял шапку и радостно остолбенел.
- Господин Воробьянинов! - закричал он.- Почет дорогому гостю!
- Ну, как дела?
- Плохи дела, :- ответил гробовых дел мастер.
- Что же так?
- Клиента ищу. Не идет клиент.
- "Нимфа" перебивает?
- Куды ей! Она меня разве перебьет? Случаев нет. После вашей тещеньки один только "Пьер и Константин" перекинулся.
- Да что ты говоришь? Неужели умер?
- Перекинулся, Ипполит Матвеевич. На посту своем перекинулся. Брил аптекаря нашего Леопольда и перекинулся. Люди говорили - разрыв внутренности произошел, а я так думаю, что покойник от этого аптекаря лекарством надышался и не выдержал.
- Ай-яй-яй,- бормотал Ипполит Матвеевич,- ай-яй-яй! Ну, что ж, значит, ты его и похоронил?
- Я и похоронил. Кому же другому? Разве "Нимфа", туды ее в качель, кисть дает?
- Одолел, значит?
- Одолел. Только били меня потом. Чуть сердце у меня не выбили. Милиция отняла. Два дня лежал, спиртом лечился.
- Растирался?
- Нам растираться не к чему.
- А сюда тебя зачем принесло?
- Товар привез.
- Какой же товар?
- Свой товар. Проводник знакомый помог провезти задаром в почтовом вагоне. По знакомству.
Ипполит Матвеевич только сейчас заметил, что поодаль Безенчука на земле стоял штабель гробов. Иные были с кистями, иные - так. Один из них Ипполит Матвеевич быстро опознал. Это был большой дубовый и пыльный гроб с безенчуковской витрины.
- Восемь штук,- сказал Безенчук самодовольно,- один к одному. Как огурчики.
- А кому тут твой товар нужен? Тут своих мастеров довольно.
- А гриб?
- Какой гриб?
- Эпидемия. Мне Прусис сказал, что в Москве гриб свирепствует, что хоронить людей не в чем. Весь материал перевели. Вот я и решил дела поправить.
Остап, прослушавший весь этот разговор, с любопытством, вмешался:
- Слушай, ты, папаша, это в Париже грипп свирепствует.
- В Париже?
- Ну да. Поезжай в Париж. Там подмолотишь! Правда, будут некоторые затруднения с визой, но ты, папаша, не грусти. Если Бриан тебя полюбит, ты заживешь недурно: устроишься лейб-гробовщиком при парижском муниципалитете. А здесь и своих гробовщиков хватит.
Безенчук дико огляделся. Действительно, на площади, несмотря на уверения Прусиса, трупы не валялись, люди бодро держались на ногах, и некоторые из них даже смеялись.
Поезд давно уже унес и концессионеров, и театр Колумба, и прочую публику, а Безенчук все еще ошалело стоял над своими гробами. В наступившей темноте его глаза горели желтым неугасимым огнем.
|
ПОИСК:
|
© ILF-PETROV.RU, 2013-2020
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://ilf-petrov.ru/ 'Илья Ильф и Евгений Петров'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://ilf-petrov.ru/ 'Илья Ильф и Евгений Петров'